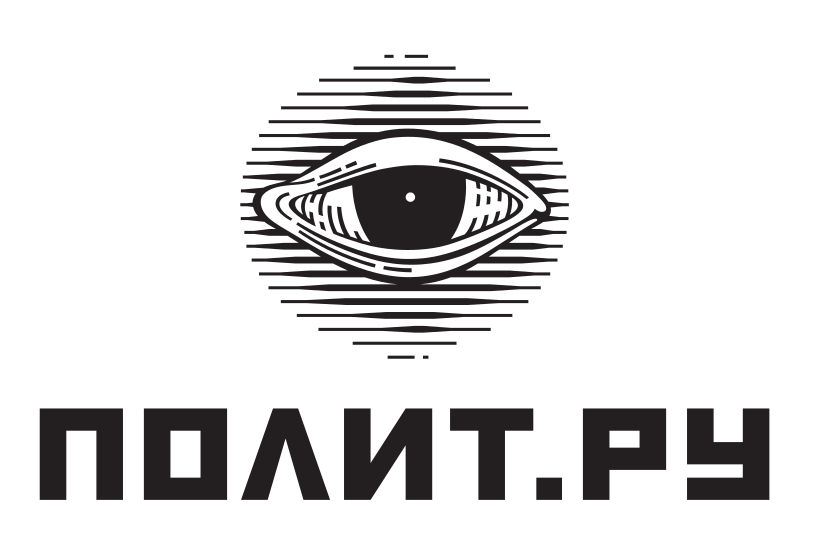Дуэль всегда существовала под прессингом двух внешних факторов: христианской морали и «здравого смысла». Спецификой дуэльных историй русского ХХ века является то, что почти все они не состоялись. Наибольшее количество мифов породила дуэль между Волошиным и Гумилевым в ноябре 1909 года. На ней прозвучал только один выстрел – Гумилева, у Волошина были две осечки. Пока были живы современники, они в своих воспоминаниях должны были занимать одну из противоположных позиций – «за» Гумилева и «против» Волошина – или наоборот. 1917 год проводит четкую разделяющую черту: если до 1917 года понятие чести, которая защищалась на дуэли, было живо, то после 1917 года оно было объявлено анахронизмом. Об истории дуэлей русских литераторов XX и XXI века рассказывает доктор филологических наук Александр Кобринский.
Феномен дуэли как общественно-исторического явления уже давно привлекает внимание историков и литературоведов. Однако подавляющее большинство книг и статей носит либо исторический, либо культурологический характер. Это во многом справедливо, так как именно историко-культурный подход к теме позволяет рассмотреть историю формирования дуэльного ритуала в России и в мире, изучить отношение к нему как со стороны государства, так и разных слоев общества. Если же авторы обращаются к литературе, то предметом разговора становится, как правило, мотив дуэли в литературных произведениях. Русская литература предоставляет достаточно солидный материал для такого рода исследований, поскольку дуэль представляет собой почти идеальный сюжетный элемент, формирующий кульминационные всплески. Если мы начнем перечислять русских писателей, в чьих произведениях мотив дуэли оказывается в центре внимания, то в нашем перечне окажутся имена Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Тургенева, Л.Толстого, Чехова, Куприна – и этот перечень оказывается далеко не полным.
Но когда мы говорим о дуэлях с участием литераторов, то всегда оказываемся на грани истории и литературы. С одной стороны, речь идет о дуэльных событиях, происходивших в реальной жизни, а не на страницах пусть даже самых замечательных литературных произведений. С другой, – участники этих событий были людьми, создававшими литературу и литературный процесс: писателями, поэтами, критиками. Самый актуальный период – это первая треть ХХ века, поскольку именно в это время дуэль как способ защиты чести впервые перестает быть прерогативой исключительно дворянского сословия, как это было в веке XIX. Принадлежность к писательскому кругу перестает быть исключительно профессиональной чертой, постепенно писатели и поэты осознают себя сословием (как и журналисты), внутри которого уже не столь важно разделение на дворян, разночинцев, крестьян и выходцев из духовного сословия. На первый план выступает образованность, талант, а попытки отказаться от поединка, ссылаясь на установленные кодексом сословные ограничения, влекут уже за собой всеобщее осуждение.
Спецификой дуэльных историй русского ХХ века является то, что почти все они (кроме одной – Волошина и Гумилева) не состоялись. С точки зрения литературного сюжета, такой поворот является, скорее, нарушением ожидаемости: событие не состоялось, на месте акцента оказалась пустота. Однако в сфере литературной жизни, литературного быта всё это отнюдь пустотой не было. Исследования литературного быта, широко начавшиеся в русском формализме и продолженные Лотманом и его учениками, позволили существенно расширить само понятие литературы, создать учение о текстовом и внетекстовом рядах, дали возможность говорить о поэтике бытового поведения. Важно понимание литературного процесса как многослойной структуры, в которой сложнейшим образом переплетаются как непосредственно сами тексты, так и порождающие их факторы, лежащие зачастую далеко за пределами чисто литературных форм.
Ахматовское «когда б вы знали, из какого сора…» здесь почти перестает быть метафорой. Литературный быт – особенно в первой трети ХХ века – был информационно перенасыщен. Возникали все новые и новые формы литературных групп и объединений, порождались все новые и новые способы литературной борьбы и даже войн, сама литература оказывалась предельно открытой для иных форм письменности: эпистолярного творчества, мемуаров, дневников, записок, журнальных и газетных отчетов и т.п. Более того – литература оказалась открытой устным формам информационного обмена, причем таким, которые всегда вытеснялись на задний план как этически неприемлемые: слух, сплетня, навет, клевета и т.п.
В литературной и окололитературной среде каждое событие немедленно передавалось из уст в уста, оно обрастало деталями и подробностями, и информация – со всеми «коррективами» и искажениями – волнообразно распространялась уже через третьи и четвертые руки. Когда этот процесс захватывал достаточно большое количество человек, возникал литературный миф – о биографии или о событии. Затем этот миф откладывался в мемуарах и дневниках, начинал функционировать, порождая все новые смыслы, - и, в результате, попадал в литературу либо в виде отдаленного эха события, либо в качестве элемента авторского кода.
Б.Эйхенбаум писал: «Эволюционирует не только литература, но вместе с ней и литературная наука. Научный пафос меняет свое направление соответственно тому, как меняются самые соотношения живых литературных фактов и проблем. Настал момент, когда пафос должен быть направлен на перегруппировку старого материала и ввод в историко-литературную систему новых фактов. История литературы заново выдвигается - не просто как тема, а как научный принцип.
Обращение к литературно-бытовому материалу вовсе не означает отхода от литературного факта или от проблемы литературной эволюции, как это кажется некоторым. Это означает только включение в эволюционно-теоретическую систему, как она была выработана в последние годы, фактов генезиса – по крайней мере, тех, которые могут и должны быть осмыслены как исторические, связанные с фактами эволюции и истории. Для изучения общих законов литературной эволюции, особенно в их приложении к проблемам технологии, вопрос о значении многообразных исторических связей и соотношений был второстепенным или даже посторонним. Теперь именно этот вопрос является центральным» [1]
Если говорить о литературном быте как тексте, то полагается в нем выделять сильные позиции. В обычном тексте таковыми являются имя автора, заглавие, эпиграф, названия глав, перечень персонажей в драме и т.п. В тексте историко-литературном будут свои сильные позиции – то есть те, которые вызывают наиболее сильное эхо среди современников и потомков, волны от которого еще долго не расходятся в окололитературном информационном пространстве. К таким сильным позициям следует, конечно, отнести дуэли между литераторами и с их участием.
Родовым понятием для дуэлей является скандал, а соседними – драка, самоубийство и т.п. Дуэль при этом вбирает в себя черты одновременно скандала и ритуала: начинаясь обычно с ссоры (иногда очень грубой, доходящей до рукоприкладства) и продолжаясь выстрелами (т.е. – покушением противниками на жизнь друг друга), она с самого начала обставлялась множеством расписанных до мелочей условностей, превращавших ее в очень жестко регламентированный процесс, пренебречь которым нельзя без угрозы для собственной чести. В этом отношении чрезвычайно удачным является название книги Ирины Рейфман о дуэлях в России – «Ритуализованная агрессия»: действительно, смыслом дуэли было упорядочить неупорядоченную агрессию, трансформировать почти первобытную злобу и ненависть в серию знаковых действий, каждое из которых было призвано напомнить о главном, ради чего и происходила дуэль – о чести.
Нельзя не сказать еще и о том, что дуэль занимала особенное место в литературной жизни еще и потому, что отчасти помогала формированию представления о литературной репутации – а в начале ХХ века это представление было во многом связано как с творчеством, так и с биографией. Конечно, речь не идет о примитивных попытках построить образ автора по его собственным произведениям (хотя такие попытки были всегда – и они являются необходимым механизмом построения репутации литератора в среде массового читателя), но все-таки формула «жить, как пишешь, а писать, как живешь» была для читательской аудитории вполне актуальна. Не отвергали этот принцип и символисты, которые вообще отказывались считать свое направление исключительно литературным: символизм понимался ими как особое мировоззрение, определяющее не только творчество, но и самые разные сферы частной жизни.
Пресловутое «жизнетворчество», которым символисты так увлекались, было лишь следствием из принципиального нежелания разделять создаваемую ими литературу и исповедуемые ими взгляды на философию, мораль, политику и т.п. Н. Валентинов писал, отчасти иронизируя над безрезультатностью символистских вызовов, что дуэли были «одним из экцитативных элементов «воздуха символизма». Разыгрывались страсти, раскрывались «бездны», появлялись в «лиловом сумраке» демоны и «черные контуры», и после вздергивания себя до истерики все кончалось благополучно примирением»[2].
В результате, бытовой и текстовый ряды русской литературы в первой трети ХХ века предельно смыкаются, как бы «подсвечивая», пародируя, комментируя один другой… Вообще, в определенные моменты бытовой «окололитературный» скандал влияет на литературный процесс гораздо более, чем большинство собственно литературных произведений. Так, например, мифогенным оказалось самоубийство поэта Всеволода Князева в Риге в 1913 году, которое превратилось в элемент кода для Кузмина («Форель разбивает лед») и Ахматовой («Поэма без героя»), а история женитьбы Вяч. Иванова на своей падчерице Вере Шварсалон (ставшая причиной несостоявшейся дуэли М. Кузмина с братом Веры Шварсалон Сергеем Шварсалоном) послужила материалом для сатирической драмы Н.Н. Вентцеля «Лицедейство о господине Иванове: моралите ХХ века».
«Литературные» дуэли имеют особое значение для мемуаристики. Рассказы о них возникают в воспоминаниях самых разных людей, это дает возможность не только сравнить разные взгляды и более или менее «очистить» событие от субъективных напластований, но и определить, в результате, степень достоверности самих мемуаров. «Пользоваться мемуарами как источником, – писал Р.Д. Тименчик, – можно только в том случае, если мы отдаем себе отчет в характере намерений мемуариста и осознаем степень его ответственности при сообщении каких-то фактов»[3]. Таким образом, дуэльные истории – как один из вариантов «сильной позиции» истории литературы – как раз и помогают нам установить эти намерения мемуариста.
Конечно, наибольшее количество мифов породили выстрелы, которыми в ноябре 1909 года обменялись Волошин с Гумилевым (если быть точнее, выстрел прозвучал только один – Гумилева, у Волошина были две осечки). Они сразу вызвали волну осмеяний в газетах (цитировались слова о «Ваксе Калошине», публиковались язвительные стихи и карикатуры – в одной из них изображалась «дуэль» двух поэтов, читающих друг другу свои стихи, после чего и они оба, и их секунданты, не выдержав, падают замертво). Затем эта дуэль фактически надвое расколола литературное сообщество на несколько десятилетий – пока были живы современники, они, как правило, в своих воспоминаниях должны были занимать одну из противоположных позиций – «за» Гумилева и «против» Волошина – или наоборот. Достаточно обратиться, к примеру, к записям Павла Лукницкого его разговоров с Ахматовой середины 1920-х годов, чтобы увидеть, с какой старательностью Ахматова стремилась «уничтожить» Волошина, а заодно и весь коктебельский круг его сторонников.
Дуэли писателей первой трети ХХ века проецируются сразу на несколько фонов: историко-культурный (тут контекстом оказывается резко возросшая роль дуэли в обществе после легализации этого института Александром III), сословный, историко-литературный. Однако 1917 год проводит и здесь четкую разделяющую черту: если до 1917 года понятие чести, которая защищалась на дуэли, было живо, то после 1917 года оно было объявлено анахронизмом, отсюда все попытки вызова в советские времена автоматически превращались в апелляцию к дореволюционным ценностям, независимо от желания вызывающего.
Дуэль была непременным элементом романтической биографии в первой трети ХХ века, причем, как это ни парадоксально, после 1917 года это стало еще явственнее. М. Зощенко пишет: «В 13-м году я поступил в университет. В 14-м – поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист – поехал добровольцем на войну. Офицером был» [4].
Впоследствии Зощенко был вызван в 1922 году на дуэль Вениамином Кавериным, но поединок не состоялся (В.Каверин в «Освещенных окнах» подробно описывает причину ссоры – свои резкие и оскорбительные суждения о стихах девушек, приглашенных Зощенко, – а также свои переживания в дни, предшествовавшие примирению: ожидание секундантов, написание предсмертных писем, изучение дуэльного кодекса). Можно согласиться с мнением М. Котовой, которая пишет: «М. Зощенко в кружке «Серапионовых братьев» создавал героическую «кружковую» биографию, имея для этого богатое военное прошлое. Знаменитая несостоявшаяся дуэль Зощенко с В. Кавериным, как нам кажется, является элементом именно этой кружковой игры и фактом, подтверждающим «героическую» репутацию Зощенко» [5]. Известно также, что весной 1920 года стрелялся на дуэли филолог и писатель В. Шкловский – впоследствии он не раз упоминал об этом в автобиографических текстах.
Этот аспект, связанный с романтическим ореолом дуэли не давал покоя Есенину, который, видимо, завидовал «славе» тех дуэлянтов, о которых писали газеты. Поэтому он – полушутя-полусерьезно – пытался разыграть дуэль искусственно:
Грузинский поэт Георгий Леонидзе писал в своих воспоминаниях о Есенине: «Захожу к нему раз вечером в гостиницу «Ориант» <Дело происходило в Тифлисе в сентябре 1924 года. – А.К.>. Он был один, печален, но при виде меня вскочил и крикнул мне возбужденно:
- Гогла, я вызываю тебя на дуэль! Называй секундантов!
- В чем дело, почему?
- Завтра в шесть часов утра, на Коджорском шоссе!
- Я не понимаю, что за детский разговор!
- Не волнуйся, будем стреляться холостыми, а на другой день газеты напечатают, что дрались Есенин и Леонидзе, понимаешь? Неужели это тебя не соблазняет?
Я засмеялся, и вскоре мы переменили тему разговора. Он совершенно забыл о "дуэли". Позднее он, оказывается, с таким же предложением обратился к Сандро Шаншиашвили...» [6]. В итоге, шутовскую «дуэль» Есенину удалось организовать со своим другом журналистом Николаем Вержбицким. В ночь с 17 на 18 октября 1924 года их на месте «поединка» задержал наряд конной милиции. «Дуэлянты» и «секунданты» (последними были Н.Стор – у Есенина и К.Соколов – у Вержбицкого) и были доставлены в отделение, но уже в 8 утра их освободили, после чего в течение двух дней шло празднование [7].
Как нам известно, в случаях более серьезных Есенин – крестьянин по происхождению – предпочитал рукоприкладство старой дворянской процедуре – отсюда его многочисленные драки. Описан и случай, когда Есенин чуть было не стал участником драки, выстроенной по ритуалу дуэли и полностью её замещающей (она так и была названа – «дуэль на кулаках»):
«То ли в шутку, то ли всерьез <Есенин> ухаживал за некрасивой поэтессой, на собраниях садился с ней рядом, провожал её, занимал разговором. Девушка охотно принимала ухаживания Есенина и, может быть, уже записала его в свои поклонники. <...>
Через несколько дней девушка пригласила поэтов „Млечного Пути“ к себе. <...> Сидели за празднично убранным столом. <...>
Футурист-одиночка Федор Николаев, носивший черные пышные локоны и бархатную блузу с кружевным воротником, не спускал с нее глаз. Уроженец Кавказа, он был человек темпераментный и считал себя неотразимым покорителем женских сердец. Подсев к девушке, Николаев старался завладеть её вниманием. Я видел, что Есенину это не нравится.
Когда поэтесса вышла на минуту <...>, он негодующе крикнул Николаеву:
— Ты чего к ней привязался?
— А тебе что? — сердито ответил тот.
Произошла быстрая, энергичная перебранка. Закончилась она тем, что Есенин запальчиво бросил сопернику:
— Вызываю тебя на дуэль!
— Идет, — ответил футурист.
Драться решили на кулаках.
Вошла хозяйка. Все замолчали. Посидев еще немного, мы вышли на тихую заснеженную улицу. Шли молча. Зашли в какой-то двор<...>. Враги сбросили с плеч пальто, засучили рукава и приготовились к поединку. <...> Дуэлянты сошлись. Казалось, вот-вот они схватятся. Но то ли свежий воздух улицы охладил их пыл, то ли подействовали наши уговоры, только дело кончилось примирением» [8].
Известен также инцидент, происшедший в московском кафе «Домино», когда поэт-экспрессионист Ипполит Соколов обвинил Есенина в заимствованиях у Рильке. В ответ выскочивший на эстраду Есенин нанес Соколову удар по лицу, громко заявив после этого, что тем самым он вовсе не оскорбил своего противника, а наоборот, помог ему войти в историю литературы. Дуэли не последовало, Соколов лишь пытался добиться правды в товарищеском суде Союза поэтов.
Разумеется, подобные примеры демонстрируют лишь влияние, с одной стороны, уже практически мертвой традиции, а с другой, – явную необходимость восполнения пустоты, образованной умиранием традиции.
Есенин и его противник пытаются решить эту проблему наиболее близкими им средствами. Однако, в качестве параллели можно привести лишь детскую дуэль Сергея Соловьева, о которой он рассказал в воспоминаниях [9], и которая представляла собой поединок с помощи обычной физической силы (а что еще могло быть у детей?). Следующая параллель – это уже крестьянская сектантская дуэль на топорах, о которой рассказал А. Амфитеатров со слов ее участника [10].
Начало ХХ века – время разложения классического дуэльного ритуала. Действовали еще живые представления о чести, но одновременно уже не существовало того общества, которое строго карало бы за их нарушения. И поэтому отношение к дуэли в этот период зачастую становилось лакмусовой бумажкой – что перевесит: представления о чести или бытовые привычки, порой, весьма недворянского характера? В начале ХХ века впервые, видимо, возникают фантастические, с точки зрения неписанных дуэльных правил, ситуации, когда секундант, отправившийся с поручением к противнику своего доверителя, вместо того, чтобы исполнить свой долг и передать вызов, настолько проникается его обаянием, что не только отказывается вести речь о дуэли, но и впоследствии отговаривает от нее доверителя. Нам известна такая ситуация между Блоком и посланным к нему Эллисом, но тут еще все было в рамках приличий. Во времена «Бродячей Собаки», когда разговоры о дуэли вспыхивали где попало и между кем попало, оказались возможным и такие истории, как та, о которой рассказывает Г. Иванов:
«Раз, выпив не в меру за столиком какого-то сановного «фармацевта», Пронин, обычно миролюбивый, затеял ссору с адвокатом Г [11]. Из-за чего заварилась каша, я не помню. Из-за какого-то вздора, разумеется. Г. был тоже немного навеселе. Слово за слово – кончилось тем, что Г. вызвал директора «Собаки» на дуэль. Наутро проспавшийся Пронин и Цыбульский стали совещаться. Отказаться от дуэли? Невозможно – позор. Решили драться на пистолетах. Присмиревший Пронин остался дома ждать своей участи, а Цыбульский, выбритый и торжественный, отправился секундантом к Г. на квартиру. Проходит полчаса, час. Пронин волнуется. Вдруг – телефонный звонок от Цыбульского: «Борис, я говорю от Г. Валяй сейчас же сюда – мы тебя ждем! Г. – замечательный тип, и коньяк у него великолепный» [12].
Таким образом, дуэль постепенно превращается в элемент фарса или анекдота. Приведенный здесь рассказ о Борисе Пронине – хозяине «Собаки» и композиторе Николае Цыбульском мог быть сочтен выдумкой Г. Иванова, но он находит свое подтверждение и у В. Пяста:
«Это он <Цыбульский – А.К.> был послан владельцев «Собаки» в качестве секунданта к одному адвокату, которому однажды ночью неожиданно безвинно, без всякого вызова со своей стороны, пришлось в присутствии очень многих претерпевать всевозможные оскорбления от хунд-директора (так вот назывался почтенный владелец «Собаки»). Очевидно, в этот именно момент последнего почему-то стало чрезвычайно мучить посмертное завещание Сапунова: «Борис! Не пускай в «Собаку» фармацевтов!»
И почему-то отождествив фармацевтический дух с этим очень близким искусству человеком, сотрудником «Аполлона», – не потому ли, что он явился в адвокатском фраке? – названный «Борис», осыпая всякою бранью гостя, до тех пор ходившего мирно себе из вечера в вечер в «Собаку», да еще относившегося к почетному разряду «друзей Собаки», т.е. лиц, которым посылались повестки на каждое заседание и собрание, начал изгонять его вон из подвала навсегда. Тот был взбешен. Кричал, что он убил бы всякого оскорбителя, не будь таковой нервнобольным, как «Борис».
Гумилев, пришедший повидаться со своим братом, каким-то дикарем-охотником, жившим где-то за городом и лишь изредка наезжавшим в Петербург, где ему Н.Гумилев назначил свидание в «Собаке», – Гумилев, по свойственной ему активности, не мог оставить без внимания происходящего инцидента – наставительно, спокойно прожевывая бутерброд, замечал хунд-директору Борису вслух:
– Борис, знай: сотрудник «Аполлона» не может быть хамом.
Но Борис закусил удила, ничего не слушал. Дело кончилось формальным вызовом на дуэль. И вот, на следующий день в квартиру присяжного поверенного, выгнанного Борисом из «Собаки», направился его секундант, Борисов секундант, Ц…ский.
Насколько история помнит, Николай Карлович Ц…ский прибыл в эту квартиру в 6 часов вечера с минутами. Он вошел в переднюю, откуда проследовал, снявши пальто, в столовую. Быстрый взор его сразу заметил кроме хозяина, кончавшего обед, раскрытый полубуфет с выглядывавшей оттуда бутылкой. Тогда, оборвав на полуслове начатую на «вы» (что естественно: знакомы они с хозяином почти не были) фразу, относящуюся к дуэли, Ц…ский нахально воскликнул:
- …ашка! (уменьшительное имя хозяина дома) у тебя только это и есть выпить?
И рука его уже доставала из полубуфета выглядывавшую бутыль. Хозяин настолько опешил, что немедленно распорядился послать за несколькими новыми. Ц…ский «нализался» так, что остался ночевать у обиженного его другом адвоката. Надо сказать, что тот был порядочный бретер. Но данный случай его вполне обезоружил» [13].
И, наконец, дуэль всегда существовала под прессингом двух внешних факторов: христианской морали и «здравого смысла». Первая категорически отрицала дуэль как разновидность убийства – и не случайно в XIX веке дуэлянты, помимо заключения в крепости или ссылки, приговаривались к церковному покаянию. Вторая представляла «простонародный» взгляд на проблему, не видя, почему за ссору обидчика нужно убивать или, того хуже, оказываться самому убитым. Примеры подобного демонстративного пренебрежения ритуалом ради сущности мы встречаем и в начале ХХ века. Известный журналист Ал. Пиленко в одной из своих статей рассказал, как однажды пытались вызвать на дуэль Василия Розанова, который был его одним из лучших друзей. Один человек обиделся на какую-то розановскую статью.
Дальнейшая история приобрела полуанекдотический характер:
«Явились к В.В. Розанову на квартиру два бравых корнета, щелкнули шпорами и:
– Господин Розанов?.. Мы – секунданты такого-то…
– Очень рад познакомиться… – длинная пауза. – Только, извините, зачем же мне секунданты?
Они стали объяснять и долго объясняли, ибо В.В. почему-то вообразил, что корнеты предлагают себя ему в секунданты. Наконец, он понял, в чем именно дело.
– А если я кого оскорбил… не имею чести знать вашего приятеля лично… то я сожалею. Очень сожалею. Искренне сожалею. Вы меня, дорогие, плохо знаете: я курицу не желаю обидеть. В мире все зло от обид. Надо к каждому человеку подходить с любовью, даже с нежностью. Очень мне эта история неприятна и даже, я сказал бы, несвойственна. Так ему и передайте.
Секунданты объяснили, что надо написать письмо.
– Письмо? Не то, что письмо, три письма напишу, если ему это может доставить удовольствие. Даже вот как: пойдемте к нему, я ему все на словах объясню.
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Обязательно надо на письме?! Вот это странно: на словах было бы более непосредственно.
Он схватился за карандаш.
Секунданты объяснили, что они сами составят текст письма, а господин Розанов подпишет.
– Дорогие мои! Зачем вы называете меня «господин» Розанов? И слово пошлое, и понятие явно крепостническое. Ведь вы же знаете, что меня зовут Василий Васильевич? Имя и отчество: теплее и сердечнее… Вы не французы, и я тоже русский человек.
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– А что касается письма, то я вам прямо и решительно скажу: это вы вздор выдумали.
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Вы не сердитесь, а вникните в суть дела. Вы желаете, чтобы я написал извинительное письмо? Согласен. Понимаете: согласен. Но каким же это образом вы будете писать мое письмо? Да еще грозите мне всякими ужасами… Милые мои! Вот придет ко мне некто и скажет: Василий Васильевич, или ты напиши, что ты меня уважаешь, или я тебя побью… А я возьму, да перехитрю его. Напишу: так как вы, такие-то, грозите меня побить и так как вы много сильнее меня, то я – и только поэтому – заявляю о моем к вам уважении. Хорошо это будет?
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ведь вы что хотите? Его успокоить? И мою совесть тоже успокоить? Так дайте же мне возможность написать то, что я думаю и чувствую.
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<…>
– Ну, как хотите. Если вы думаете, что вы лучше меня напишете, то попробуйте.
Прочитав проект секундантов.
– Ну, вот, я же вам говорил. Это письмо не так.
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Да вы не сердитесь, а то я тоже рассержусь. Я вам окончательно говорю: плохо написано, нескладно и даже, простите, неграмотно.
– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Господи Боже мой!.. Я вам повторяю: я не так пишу письма. Понимаете: у меня своя манера. Индивидуальность. А ваше письмо всякий лабазник сочинить может…» [14].
Розанов (скорее всего, действуя совершенно сознательно) последовательно деконструирует дуэльный ритуал, обнажая несообразности его условностей и выступая в качестве носителя неких базовых ценностей (человечность, доброта, уникальность личностного начала), в противоречие с которыми входит процедура, предусмотренная дуэльными кодексами.
И несмотря на это, дуэль все же жила. Еще в 1930-е годы парижские журналы писали о русских дуэлях близ Марли (недалеко от Парижа), а последние дуэли в Европе были зафиксированы уже после войны. Даже самым стойким противникам дуэли трудно было устоять против её притягивающей силы. Так, А. Амфитеатров рассказывает, как через некоторое время после произнесения своей громкой речи против дуэлей В.Д. Набоков был оскорблен одним журналистом. Убедившись на своем примере, что судебная система не способна решать проблемы чести, он вызвал оскорбителя на дуэль.
Стоит заметить, кстати, что журналистские дуэли распространялись вообще быстрее, чем литературные, этому способствовал сам публичный характер любого высказывания в прессе. Уже во второй половине XIX века такие дуэли стали весьма распространенными. Иногда к дуэлям приводила и борьба между различными журналами. А после 1905 года, когда в России появилась достаточно свободная пресса, количество людей, которые ощущали себя оскорбленными теми или иными публикациями резко возросло [15]. В некоторых случаях оскорбленные прибегали к обычному рукоприкладству, так Сергей Дягилев, явившись вместе с Философовым к черносотенному критику Виктору Буренину, нанес ему удар по лицу, отомстив таким образом за гнусные обвинения в печати. Разумеется, никакой дуэли не последовало.
Умерла ли дуэль – прежде всего в литературной и художественной среде – после второй мировой войны? Разумеется, как более или менее распространенное явление она уже не существовала. Однако еще живы были люди, выросшие в среде, где особым образом относились к проблемам чести. Вызов на дуэль в условиях, когда ответом мог быть не только смех, но и палец у виска, означал, прежде всего, право жить теми ценностями, которыми жили дворяне не одно столетие. А поскольку писатели, художники, актеры, музыканты уже давно ощущали себя, независимо от происхождения, «дворянством духа», то и способы отстаивания чести они стремились сохранить прежние.
Разумеется, речь могла при этом идти только об эмиграции. В Европе уже в послевоенное время прогремела дуэльная история, когда знаменитый танцовщик и балетмейстер Сергей Лифарь, интимный друг С. Дягилева, дрался с маркизом де Куэвас, директором «Гран бале де Монте-Карло». Секундантом Лифаря был известный впоследствии политик, будущий лидер французского Национального фронта Жан-Мари Ле Пэн. Всех поразил тогда выбор оружия: противники дрались на шпагах – тогда как даже дуэли начала ХХ века проходили исключительно на пистолетах (револьверах), холодное оружие для дуэли считалось уже тогда раритетом. Неоднократно отмечалось, что ярый националист и гомофоб Жан-Мари Ле Пэн согласился стать секундантом Лифаря, несмотря на все свои предубеждения.
Дуэль на шпагах была, с одной стороны, более аристократической (она требовала умения фехтовать, которое издавна было прерогативой аристократии), а с другой – менее кровавой. Количество смертельных случаев в дуэлях на пистолетах было намного больше. Повезло и участникам этой дуэли: Лифарь был сравнительно легко ранен в руку, маркиз де Куэвас остался невредим.
Вызовы и дуэли в литературной среде пережили и сам XX век, перенесясь в третье тысячелетие. В октябре 2003 года газеты России и Европы писали о публичном конфликте, происшедшем на Франкфуртской книжной ярмарке. Филолог Михаил Мейлах дал пощечину писателю Анатолию Найману – за то, что тот сделал его прототипом своего романа «Б. Б. и др.» После выступления Наймана на круглом столе Мейлах взял слово и объявил, что «выступавший – подлец, негодяй, клеветник и пасквилянт», и предупредил, что сейчас он «оскорбит его действием». После чего и произошло то, что пресса впоследствии называла «рукоприкладством» и «мордобоем».
Однако сам термин, употребленный Мейлахом, говорит о том, что речь шла именно о дуэльном ритуале: филолог в начале ХХI века повторил почти слово в слово то, что произносил по адресу своих реальных или мнимых врагов Андрей Белый в начале века двадцатого. Впоследствии сам Мейлах пояснил причины нанесенного им оскорбления:
«Скажу лишь, что, изображая в своих пасквильных романах в окарикатуренном виде меня, моих близких и моих друзей, Найман позволил себе войти в мою частную и даже интимную жизнь. Он предал нашу тридцатилетнюю дружбу, прослаивая свое писание обстоятельствами, о которых в эпоху нашей близости он мог узнать только от меня и лишь в силу моего исключительного доверия, искажая их и щедро разукрашивая нелепейшим вздором, частично же позаимствовав их из моих дневников: не подозревая будущего предательства, я давал их ему читать по его просьбе. Не умолчу и о том, что пасквиль писался во время смертельной болезни моего сына, крестным отцом которого когда-то был Найман, а в траурный год – печатался».
Вызова на дуэль М. Мейлах не дождался. Но сам выбор формы отстаивания чести в 2003 говорит о том, что память о таком способе борьбы за честь и достоинство все еще живо. И сама эта ситуация в литературной среде опровергает грустные слова, сказанные не так давно писателем Марком Соболем о том, некоторые слова «приходится выслушивать, ибо «дуэли отменены, а пощечины подсудны...».
В иллюстрации к статье использована обложка книги:
Кобринский А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт литературной жизни. - СПб.: Вита Нова, 2007. - 448 с. - 108 ил. (Историко-литературное приложение к серии "Жизнеописания"). Художник - Сергей Борин.
Примечания:
[1] Эйхенбаум Б. Литературный быт // Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987. С.432.
[2] Валентинов Н. Два года с символистами. М., 2000. С.92.
[3] Тименчик Р. К вопросу об источниках для жизнеописания Гумилева и Ахматовой // Ахматовский сборник. 1. Париж, 1989. С.252.
[4] См. об этом, в частности: Каверин В. Молодой Зощенко // Воспоминания о Михаиле Зощенко. СПб., 1995. С.121.
[5 Рейкина М. Проблема литературной репутации М.М. Зощенко: 1910-е—1920-е годы. Дипломная работа. М., РГГУ. 2002. Как справедливо отмеяает М.Рейкина, эта же история косвенно упоминается и у Анненкова: Анненков Ю. П. (Б.Темирязев). Повесть о пустяках. СПб., 2001.С.143.
[6] Леонидзе Г. Я вижу этого человека // С.А. Есенин в воспоминаниях современников. Т.2. М., 1986.
[7] См.: Письма и записки С.А.Есенина / Публикация Гордона Маквей // Новый журнал. Нью-Йорк. 1972. Кн.109. С.167.
[8] См. об этом: Есенин С. Полн. собр. соч. Т.6. М., 1999. С.396.
[9] Соловьев С. Воспоминания. М., 2003. С.180.
[10 Амфитеатров А. О дуэли // Сегодня. Рига. 1932. № 351, 20 декабря.
[11] Согласно убедительному предположению Р.Д. Тименчика, под инициалом Г. подразумевается известный адвокат А.И. Гидони.
[12] Иванов Г. «Бродячая собака»: Из петербургских воспоминаний // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С.441.
[13] Пяст В. Встречи. М., 1997. С.180-181.
[14] Пиленко А. Дуэль Розанова // Сегодня. Рига. 1932, № 4.
[15 См., например: Амфитеатров А. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. Т.2. М., 2004. С.117-118.
См. также другие материалы автора:
- Филологи вырвались на природу. На Карельском перешейке прошла Летняя школа по текстологии
- Интервью с В.Е. Багно: «Мы можем делать такие проекты, которые никогда не сможет сделать университетская наука»
- Интервью с А.А. Долининым: «Через 2-3 поколения нужно менять научную парадигму»
- Интервью с А.М. Городницким: «К Академии Наук надо относиться, как к живой природе»
- Интервью с Корнелией Ичин: «Если бы не русские эмигранты, в нашей стране не было бы многого»