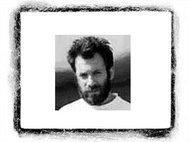К радости автора, статья «Жизнь после перемен» вызвала достаточно ощутимое количество разного рода откликов: и в комментариях непосредственно на «Полит.ру», и в иных местах Интернета, и даже просто высказанных мне частным образом посредством электронной почты. Это читательское неравнодушие, в свою очередь, породило во мне достаточно сильное желание в некотором смысле продолжить коммуникацию – во-первых, ответить на некоторые вопросы, пояснив те или иные моменты, а во-вторых – попытаться классифицировать возражения, поелику это возможно.
Итак, первая группа возражений сводится, говоря грубо, к вопросу: а с чего ты взял, что все обязательно возьмет и гикнется в среднесрочной перспективе? На самом деле, я, как уже говорилось, вовсе не пытаюсь примерять на себя лавры политолога-вещуна, а лишь солидаризуюсь с теми из них, кто мне кажется здравомыслящим. Здравый же смысл говорит, похоже, следующее. Во-первых, всякий, даже вполне успешный, политический режим имеет свой отмеренный срок жизни. На это счет наработана огромная практика со времен еще античной Греции. Ближайший наблюдаемый пример: режим ливийского модника. Ничто ведь не предвещало его падения: цены на нефть – хоть куда, социальная политика – весьма активна и всеохватна, баланс между сильными племенными союзами вполне себе аккуратно поддерживался центральным правительством по схеме «живи и дай жить другим», международное сообщество тоже было толерантно Каддафи, как мало когда прежде… И, на тебе – какой вдруг конфуз!
В принципе, политики-практики в курсе, что существует такое явление. Вот, скажем, такой опытный в политике человек, как В. В. Путин, говорил авторам книги «От первого лица» (М. : Вагриус, 2000) буквально следующее: «От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они должны были это вовремя понять». То есть, Путин хотел сказать, что если бы немцы вовремя сменили персонал верховной власти, то это бы прошло более ламинарно, без скандала. Но что сменить было надо – это, по его мнению, аксиома.
Некоторые отзывы такого рода конкретизируют сомнения в переменах: все, дескать, зависит от цен на нефть – будут они достаточно хороши, тогда нынешние лица останутся в своих креслах до морковкина заговенья. Что ж, в ценах на нефть я не понимаю ровным счетом ничего, но что-то подсказывает мне, что будь они даже сказочно высоки, эффект станет лишь временным да и то – не слишком сильным. Почему? Да я ж уже сказал в той статье – есть что-то еще, очень людям нужное, помимо крох с барского стола. Даже если крохи весьма жирные. Более того, сам по себе бодрый рост благосостояния способствует росту амбиций – а эти амбиции в нашей политической системе очень скоро упираются в накладываемые ею ограничения. Нельзя стать богатым, не унижаясь и не платя деньги в тот или иной мафиозный общак. Нельзя быть востребованным профессионалом, если не лижешь чей-то зад. Нельзя застраховать свою собственность от реквизиции и т.д. Ну, а если вместо бурного роста благосостояния будет нечто противоположное – то, как говорится, тем более.
Да, в общем, не на нефти одной свет клином сошелся. Катализатором краха режима, лишившегося в глазах населения легитимности, может стать что угодно. Вспомним: когда возник Ельцин в качестве политического явления, режим Горбачева просто не знал, что с ним делать и впал в оцепенение. В самом деле, он привык к некоторому набору сущностей, а тут явилась новая, так сказать с комбинированной ДНК: вроде как из наших по крови, но не наш, мы его уволили, а он почему-то не исчез из политики, ну, никак не хочет играть по нашим правилам!
Горбачев, кажется, до сих пор не осознал, что там было что-то качественно иное, и любит повторять, что-де, назначил бы он Ельцина после извержения из сана не зампредом Госстроя, а послом в какую-нибудь банановую республику – и не было бы никакого Ельцина. Ха-ха! Поехал бы Ельцин на бананы!.. (А нефть даже и в конце Перестройки, кстати, стоила дороже, чем в годы восьмой, «золотой» пятилетки 1966 – 1970, когда режим был крепок как никогда, и экономика развивалась тоже как никогда резво! Причем, дороже не только в абсолютных ценах, но и в приведенных, с учетом динамики стоимости доллара.)
А ведь это только один из вариантов – появление амбициозного отщепенца. Причем, уже опробованный вариант – а ведь есть еще и неопробованные…
А, кроме того, ученые экономисты говорят нам, что даже если все вне наших границ останется таким, как сегодня, нынешнее соотношение государственных возможностей и гособязательств, а, главное, технологии реализации того и другого гарантируют неминуемый вылет в трубу. То есть режим поставлен в классическую патовую ситуацию – если он ничего предпринимать не станет, то – см. выше. А если станет – то тем более, так как в ходе реформ люди обычно ощущают сильный дискомфорт. И чем серьезнее реформа – тем сильнее. Можно, однако, сказать, что серьезное реформировние ему, режиму, просто не по плечу – помимо многих прочих препятствий, непреодолимым выглядят принятые с 2000 г. обязательства перед членами «ближнего круга». А провернуть дело, их не затронув, похоже, невозможно. Таким образом, я убежден, что сколько-нибудь серьезными реформами займется только следующий режим – просто потому, что ему это сделать будет сильно легче.
И еще одно: возражение, типа «сейчас народ не тот, что в 1991 г., нет нужной пассионарности», снимается отсылкой в более ранний, скажем, 1985 г.: а ну-ка – найдите в тогдашних гражданах хоть каплю пассионарности? Разве, лишь в части рассказывания анекдотов о спортивном катании на лафетах.
Теперь, собственно, о новой жизни. Что гораздо интереснее. Самый простой случай критики состоял в претензии к слову «колонизация». Дескать, по сути все правильно, но слово – плохое, людей не зацепит, поскольку несет всякие нехорошие коннотации, связанные с африканскими рабами и пр. Лучше, допустим, сказать «освоение» или еще как-то.
Что ж – я-то как раз придерживаюсь убеждения, что правильный выбор слова много на что влияет. Скажем, назвали бы в свое время некоторое явление не приватизацией, а охозяиванием – совсем иначе на многое бы взглянулось. Люди бы с ходу понимали смысл процесса, а в частных его реализациях – сколь он успешен и почему. И уж всяк, не считали бы, что им пудрят мозги иностранным словечком, дабы скрыть чьи-то темные делишки.
Что же касается слова «колонизация» как такового – то мне представляется, что предполагаемый в связи с ним негатив в основном является пережитком советской школы с ее антибуржуазным и антиимпериалистическим пафосом. Нынче, как я понимаю, таковой уступил место более здравому взгляду на вещи, и факт, что большая часть Африки южнее Сахары всем хорошим у себя обязана в той или иной мере именно европейским колонизаторам, для современного думающего человека вполне очевиден. Впрочем, свет клином на этом слове не сошелся – но ясно, однако, что с терминами надо работать очень серьезно и интенсивно. А сырья для этого русский язык предоставит вдоволь – та же культурная революция явно ведь недооценена…
Более резкие возражения имели место в виде, сводимом к формуле: что ты там мудришь с концепциями – надо вместо этого конкретные меры принимать, и только тогда будет толк. Список этих конкретных мер – весьма разнообразен: от предложения вычистить из руководства страны всех, работавших прежде в спецслужбах или введения упрощенного судопроизводства и смертной казни для взяточников – и вплоть до передачи зачем-то Курильских островов Японии. Проще всего отмахнуться от этих энтузиастов, сказав себе, что они ничего не поняли – ни в моей статье, ни в жизни. В частности, не поняли, что отдельные, даже вроде бы разумные технические меры, висящие в концептуальном вакууме, не только не приведут к каким-то серьезным позитивным изменениям, но и просто даже не будут должным образом реализованы: как ни обсасывай 94 федеральный закон, а коррупция при госзакупках все равно будет процветать. Ибо, она сегодня – род общенационального спорта. Людей в России, которые искренне считают, что не воспользоваться административной рентой – грех и глупость, в десятки раз больше, чем тех, кто этой рентой в реальности обладает. И, возможно, больше, чем тех, кто так не считает.
Интересно, однако, не это, а то, что упомянутые «технари» в известном смысле столь же органичны нашему обществу, как и коррупция. Дело в том, что они олицетворяют собой некую очень традиционную русскую игру. Или лучше – русскую мечту. В том смысле, в каком мы обычно говорим, допустим: «американская мечта», подразумевая, как всем известно, попадание в сверхудачную рыночную конъюнктуру.
Так вот, рассуждая по аналогии, русская мечта состоит в том, чтобы объехать проблему на кривой козе (см. сказку Антония Погорельского «Черная курица или подземные жители» или повесть Александра Пушкина «Пиковая дама»). Иначе говоря, мечтается о том, чтобы сказать новое слово в науке, не освоив в полной мере того, что уже «сказали» другие ученые. Или написать выдающуюся книгу, ничего перед тем не читая. Или получить политическую власть, не пройдя последовательно все ступени приближения к ней и даже не разобравшись как следует в механике ее функционирования. Или разбогатеть, не работая. Или избавиться от болезни, не выполняя прописанного врачом курса лечения. Или обрести жизнь вечную без длительной духовной работы, а лишь выполнив разовый магический ритуал.
В нашем случае, очень хочется решить все проблемы государства каким-нибудь одним, изолированным техническим трюком. (Помнится, в конце восьмидесятых подобные идеи перли из всех дыр как опарыши из соответствующего субстрата. Мне, в частности, засело в память следующее предложение, растиражированное тогдашними СМИ: выкопать некий медный кабель, уложенный военными от Калининграда до Владивостока, продать его и на вырученные деньги построить Новую Россию.) Или даже мельче – решить проблемы какой-либо отрасли одним техническим действием. Например, устранить т.н. неуставные отношения в армии просто отменив призыв.
Увы, в общем случае, ничего такого в природе не бывает. Все на свете взаимосвязано, и потянув за одну веревочку, тут же чувствуешь, как напряглись все прочие…
Следующая группа оппонентов сводится примерно к такой формулировке. Дескать, опять вы тут нам мозги компостируете своими большим проектами – хватит, наелись этого при совке, оставьте людей в кои-то веки в покое! Пусть каждый занимается своим собственным делом или, если угодно, своим собственным благоустройством – и все будет хорошо. А если уж вам так хочется бороться за что-то общеполезное, то боритесь за то, чтобы люди у нас не писали мимо унитаза в общественных и коммунальных уборных!
На самом деле, это уже довольно серьезное возражение. Как нам с ним быть?
Попробуем вступить в виртуальный диалог с носителем подобного мнения. Диалог выйдет примерно таким:
Я: Стало быть, вы – сторонник сохранения существующего положения дел?
Он: С чего вы взяли?
Я: Как с чего? Сегодняшнее российское общество – это то, чего вы желаете. Каждый занят своим личным и никто никого не обременяет никаким общим делом. Вас все нынче устраивает?
Он: Нет, меня многое не устраивает. Общество действительно такое, как вы сказали, но у него есть ряд технических недостатков, которые можно устранить в рабочем порядке.
Я: Например?
Он: Например, мне не нравится коррупция. И воровство.
Я: А почему это они вам не нравятся? Ну, гребут отдельные лица, пользуясь моментом, но вам-то что? Вы ведь заняты собственным делом, а не чужим?
Он: Но, ведь, они воруют из бюджета – то есть, и мое тоже.
Я: Но, ведь, вам тоже хватает на жизнь и даже на рост благосостояния? А бюджет – это, извините, уже самое что ни на есть, общее дело. Вас же, как мы договаривались, интересует только ваше личное. И вообще – что это вы сюда залезли, в мою заметку. Ведь сразу же ясно, что здесь разговор идет не о вашем личном – а вы залезли, дочитали до конца, да еще и произнесли некоторые возражения позиции автора – не поленились. Стало быть, вас волнует тема. С чего бы? Как может такая тема волновать человека, занятого исключительно собственным делом? Стало быть, не совсем исключительно…
Ну, а если серьезно, то я здесь вполне солидаризуюсь с высказыванием Виталия Найшуля: «Отец Сергий Булгаков говорил, что конкуренция – это центробежная сила, и ее можно запускать там, где есть мощные центростремительные силы. Я, как экономист, под этим полностью подписываюсь.<…> Открытая экономика – это высокие требования к патриотизму. Есть русская пословица: «на завет цены нет». Человек не должен продавать отца, мать и т.д. Это подразумевается. И либерализм, кстати, к этому отношения не имеет. Он просто проверяет способность этого человека не продавать родину. Как всякая система с сильным стимулом. Как, например, половой инстинкт проверяет способность человека контролировать себя». Вот один из вариантов этой самой центростремительной силы я и предложил. Не нравится этот – предложите иной, но только если не предложить никакого вовсе, то ни России, ни нескольких россий, ни даже русского народа не станет в не слишком отдаленной перспективе. Я полагаю, что для очень многих у нас подобное развитие событий – утрата существенной ценности, перспектива, которой стоит избежать. Для тех же, кому эта ценность – не в ценность, как я уже писал, в большинстве случаев просто нет резона связывать с Россией свое будущее и настоящее: есть немало мест на Земле, где заниматься исключительно личным своим делом можно гораздо успешнее – даже независимо от уровня собственных дарований.
И, наконец, самое интересное для меня возражение сводится примерно к такому тезису. Мол, колонизация – это, конечно, сильный мобилизующий фактор. Но нам, в отличие от наших предков XV-XVIII веков, такое уже не по зубам. Особенно такая колонизация, которую ты имел в виду – то есть, не захват и удержание территории, а ее абсорбция: переваривание этой территории, освоение, распространение на нее жизненных стандартов метрополии и т.д. Столетие перманентных чисток настолько обеднили в России генетический материал, что восстановление его до уровня, способного породить приемлемую пассионарность, потребует пару веков – не меньше.
Это действительно серьезная проблема и говорить со стопроцентной уверенностью – по зубам или нет нам колонизация себя – я действительно не возьмусь. Если что я и могу по данному поводу заметить, так это следующее.
Изучение истории освоения русскими Сибири в XVI-XVIII веках показывает, что, на первый взгляд, и тогда подобное тоже было не по зубам. Изумление вызывает сопоставление трудностей той задачи с крохотными ресурсами, брошенными на преодоление этих трудностей. А также наложение этих достижений на общий ход дел в метрополии: победный поход Ермака имел место то ли в финале, то ли сразу по окончании грандиозно проигранной разорительной Ливонской войны, посольство в Китай казака Петлина имело место практически в Смутное время. Да и политика государства, скажем, в отношении крестьян в XVI-XVII веках скорее препятствовала, чем благоволила их участию в колонизации Дикого Поля и той же Сибири. И, однако ж, ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО!
У нас нет сейчас такой пассионарности? Наверное. Но это если принять весьма упрощенную модель, сводящуюся к тому, что есть нация со своими свойствами и, вот, эта нация, в силу этих свойств, берется за задачу колонизации. В действительности модель должна быть существенно более сложной: процесс взаимодействия задачи колонизации с осуществляющим ее народом – взаимный. Сама колонизация видоизменяет народ, порождает в нем новый тип сознания, инкорпорирует в него представителей иных этнических общностей, переваривает их, делает русскими если не самих, то их ближайших потомков. Как делал русскими потомков десятков разных народов прежде. Но и самих русских этот процесс делает иными – и не признавать это, значит лгать, а пытаться избежать этого – значить попросту умереть. Умереть, как народ. Как живая национальная культура. Как бы ни хотелось в душе каждому оставить все неизменным...