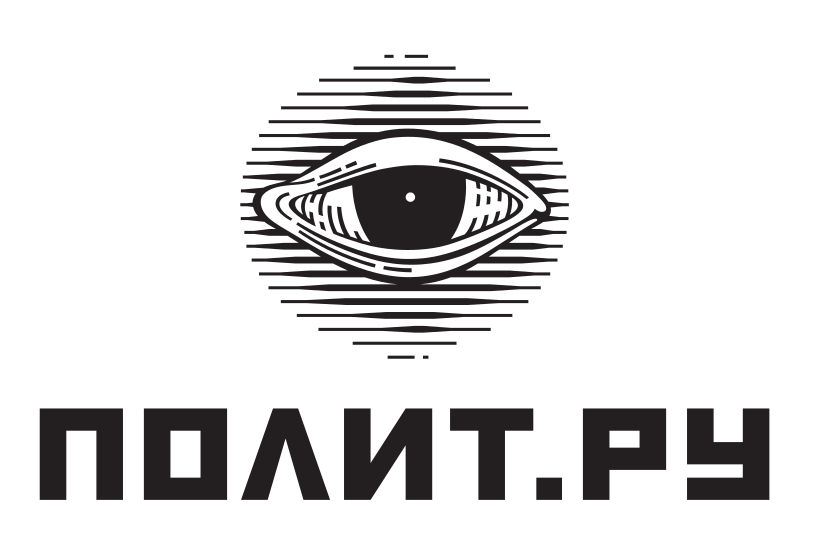Для проекта «После» Иван Давыдов поговорил с политическим исследователем, писателем, автором бестселлера «Конец режима» Александром Бауновым — о том, как кончаются диктатуры, о том, уместны ли исторические параллели, и о том, что нам сделать, чтобы вернуться из архаики в модерн
Вернуться в Россию
Мне кажется, что про «захотел бы вернуться» не очень интересно, потому что это довольно личное. Например, я могу захотеть вернуться в Россию после того, как ознакомлюсь по порядку со всеми циклами фресок Джотто, изучу ранний Кватроченто в оригиналах в церквях и потом его переход к высокому Ренессансу. Поскольку, живя в Италии, все эти церкви можно объездить самостоятельно и всё это увидеть своими глазами, возможно, я захочу вернуться после того, как будет завершен этот титанический созерцательный труд. Поэтому мне совершенно необязательно хотеть вернуться ровно в тот момент, когда такая возможность наступит, тем более что, на мой взгляд, в моем случае она и не исчезала. По крайней мере, у меня нет никаких сигналов по поводу того, что я не могу вернуться, нет никаких формально репрессивных в моем отношении действий, хотя они могут возникнуть в любой момент по отношению к любому из нас, конечно. Это вопрос личный, это вопрос желания, и он никак не связан с вопросами жизни страны, это вопрос моей жизни. Прямой корреляции между желанием уехать, желанием вернуться и тем, что происходит на родине, нет, эта связь не прямая, но на родине всегда происходит что-то интересное.
Что касается возможности вернуться, то вот тут как раз всё довольно очевидно. Такая возможность связана даже не с прекращением СВО и диктатуры, а с прекращением преследования за слова. Когда слышишь упреки вроде «Почему вы находились в России, которая уже была в конфликте с Украиной с 2014 или с 2015 года и которая уже была автократией, и, несмотря на это, вы там жили?» — ответ довольно простой. Потому что там можно было жить и с этим всем не солидаризироваться, можно было свою позицию, отличную от официальной, открыто высказать, и это, конечно, самое принципиальное, что отличает жителей автократии от жителей тоталитарной системы. А после февраля власти начали неприемлемую для многих уехавших вещь. Не все, кто уехал, уехали из-за страха непосредственных репрессий — уехали потому, что практически закрылась возможность, оставаясь в стране, быть частью социума, который публично не поддерживает официальные действия. Власти говорят так: если вы хотите жить на родине, то вы должны быть частью большинства, вы должны слиться с большинством и должны быть той группой, которая всё это одобряет или хотя бы молчит. Молчание пока еще приемлемо, поэтому это всё еще пока не является у нас тоталитаризмом в чистом виде. Классический тоталитаризм, как мы помним, требует активной поддержки, и молчание там является враждебным действием. Вот в случае России — Ройзмана (включен Минюстом в реестр иноагентов. — Полит.ру), например, выпустили, но при условии, что он не будет пользоваться интернетом. Соответственно, пока он молчит, он может оставаться на свободе и придерживаться своих собственных мнений, но придерживаться их где-то у себя в голове или в разговорах с близкими людьми. Но мы, конечно, на пороге классической тоталитарной системы. Наверное, Россия этот порог не пересекла, но она пересекла тот порог, который являлся лично для меня приемлемым, а именно жить в диктатуре, но иметь возможность от всего этого публично дистанцироваться. Вот они эту возможность закрыли. Мы понимаем, что есть оттенки, но в целом очевидная разница все-таки есть, я ее вижу. Уехал я не от автократии как таковой. Как человек с большим контекстным историческим мышлением я понимаю, что сотни миллионов вполне достойных людей прожили вполне достойную жизнь, будучи гражданами самых разных автократий — от империи Александра Македонского, Римской империи и Османской империи до мелких националистических автократий, не забываем, что они тоже есть: в Греции Метаксас и в Латвии Улманис, и т. д. Но это не значит, что там не было достойных людей, и то же самое касается Римской империи и чего угодно. Тут действительно выбор — искать единственно идеальную страну и переезжать жить туда, иначе жизнь пропала. Это надуманный выбор, но определенные уровни несогласия, конечно, должны быть, иначе совсем тяжко.
Поддерживать уровень навязанного консенсуса — довольно утомительное занятие, хотя мы понимаем, что в это утомительное занятие вовлечены бесконечные служащие разных специальных служб, которые ничего другого не умеют и не хотят, это их карьера, это их судьба, это их жизненный путь и это их поприще. У преследования несогласия есть масса бенефициаров, и их, возможно, даже больше, чем людей, которые ищут этой самой свободы несогласия. Многое зависит не только от решений первых лиц, но и от количества этих самых людей и их жизненных задач. Зачастую, например, преемнику диктатора или новым властям бывает проще сохранить этот аппарат и его задачи, как-то их скорректировать и перенаправить, чем его ликвидировать, и не создавать таким образом себе множество опасных врагов. Это всегда большая проблема — что делать с силовым аппаратом диктатуры, когда ты хочешь демонтировать диктатуру. И твой главный потенциальный враг — это спецслужбы диктатуры, армия диктатуры и полиция диктатуры, и некоторое количество транзитов сломалось на этом. Тем не менее диктатура переживает какие-то фазы, более репрессивные или менее репрессивные, при одном и том же лице и при разных лицах — это исторический факт.
Возможное будущее
Считать Россию «конченой страной» просто не исторично. Это категорическое, императивное и, может быть, высокоморальное мышление, но оно не историческое. Россия очень большая, и до того, как что-то закончится, она будет существовать в той или иной форме. Вопрос, конечно, выбора этой формы. Если под словом «конченая» мы понимаем некоторую вечную мерзость и вечно зияющее дно существования… В принципе, может стать хуже. Я даже думаю, что в каком-то отношении это весьма и весьма востребованный вариант. Есть люди, которые хотят, чтобы стало хуже, и люди, которые видят себя комфортно в ситуации нового отъема собственности, например, или новых массовых репрессий. Запрос на новые репрессии есть, хотя не такой уж гигантский. Что мы понимаем под «конченой страной»? Россия как географическо-политическая сущность, естественно, остается, а как человеческое общество…
Разных сценариев много, и Коткин недавно выступал со своей группой сценариев, он хороший историк (американский историк Стивен Коткин опубликовал статью с описанием возможных, на его взгляд, вариантов российского будущего). Если мы имеем в виду северокорейскую форму, такую вторую Северную Корею при Китае, то это неприятный сценарий, хотя он действительно не является невозможным. Я, собственно, его и имел в виду, в частности, до статьи Коткина. Я же не думаю, что Пригожин, требуя сделать из России Северную Корею, читал этого уважаемого профессора, он сам себе профессор.
Но Россия вполне может трансформироваться примерно в то, чем была еще недавно. Мы видим, что Путин, например, не очень хочет всеобщей мобилизованной нации. Он не очень хочет искреннего участия больших масс населения в борьбе с «украинским фашизмом». Он хочет, чтобы выдуманный им украинский фашизм был побежден, и чтобы это сделала не Красная армия, а «ограниченный контингент». Культура игроков и болельщиков никуда не исчезла, и Путин как раз не хочет выпускать всех этих людей с трибун на поле, опасаясь хаоса, который после этого начнется на поле, и, собственно, разноса всего стадиона. Именно это и произойдет, если вдруг запустить всю нацию играть на тот фронт, который мыслится ограниченным. Я так понимаю, он хочет получить Великую Победу как конституирующее для России событие, для его России, поскольку он лепит свою новую Россию. Он получил Россию Горбачёва и Ельцина, а должен сдать потомкам Россию Путина. А лучший и самый простой способ передать Россию Путина дальше по эстафете веков — это передать ее в качестве страны, которая одержала Великую Победу, поскольку он, как всякий российский гражданин, с молодых лет видит историю России как историю больших военных столкновений и победного выхода из этих военных столкновений, и эти победы и есть такие конституирующие национальные события, вокруг которых формируются те или иные версии российской государственности. Вряд ли это было написано в каком-то бизнес-плане с KPI, но я думаю, что это примерно так им ощущалось, как ощущается многими русскими людьми.
Самым разным русским людям не хватает некоего конституирующего события, то есть события, которое заново учредит их государство, которое потеряло свою прежнюю форму. Очевидно, что победа в Чеченской войне не могла стать таким событием, это скорее спасение, чем победа, скорее опрокидывание возможного дальнейшего внутреннего поражения, остановка поражения и в чистом виде оборонительный успех. Сирия — далеко и мало, и очевидно, что нужна была победа типа возвращения Крыма. Строго говоря, Крыма бы им хватило, и все так думали. Почему, собственно, Запад продолжал общаться с Путиным после Крыма? Потому что им казалось, что российской нации Крыма для этих задач — залечивания травмы в результате распада «большой России» и прежней государственности — будет достаточно. Это такой окончательный пластырь, после которого заживет шрам, поэтому — с точки зрения многих западных политиков и экспертов, и многие этого не скрывали даже в личных беседах, хотя и оговаривались, что это всё было незаконно, нехорошо и неправильно, — это та небольшая цена, которую можно было бы заплатить за то, чтобы Россия наконец присмирела и перестала быть травмированной больной бывшей сверхдержавой.
Выяснилось, что нет, выяснилось, что произошло ровно обратное, что это была такая закуска, которая разожгла аппетит, но в тот момент многим так не казалось. И теперь новое искомое событие должно быть Великой Победой, но Великая Победа, как мы знаем, как и великая война, пробуждает разные великие силы, которые трудно контролировать. И, честно говоря, поднять не очень молодое и не очень бодрое население на какую-то общенациональную комсомольскую стройку и на общенациональный подвиг без очевидных для этого причин, видимо, было не так просто и сочтено опасным. А вот принести какую-то победу над слабым противником и переупаковать всё в качестве очередной Великой Победы, которая ставит нынешнюю Россию на вершину рядом с той Россией, которая, собственно, победила нацизм и сформировала новый мировой порядок по итогам этой победы, вернее, участвовала в его формировании, и самому таким образом встать в ряд великих победителей и великих правителей — это было очень соблазнительно, и не только для вождя, но и для народа, поэтому народ и отнесся так неплохо к инициативе своего вождя.
Давайте возьмем реалистический сценарий. Нестрашная Россия будущего — это Россия после Путина, где власть берет кто-то из номенклатуры или кто-то из аппарата, либо выбранный в качестве преемника, либо ставший им по факту — как в Узбекистане, например, где тоже откладывали-откладывали, а в итоге власть просто забрал тот, кто мог это сделать по конституции, и сформировал новое государство и новое лицо страны, победив, правда, главу спецслужб в этой борьбе за власть. Но тем не менее даже в этом отношении произошел переворот — Мирзиёев был премьер-министром и как премьер-министр имел право наследовать пост Каримова, и бóльшая часть государственного аппарата спокойно перешла на сторону того, кто по конституции мог и должен был стать правителем, опасаясь любой турбулентности, — считая, что лучше адаптироваться к этой фигуре, чем делать ставку на другие фигуры, которым потом придется бороться за власть.
В общем, простой сценарий такой: президент Южной Африки Сирил Рамафоса — глава левых профсоюзов и большой борец с мировым империализмом, в частности американским, человек с безупречной антиимпериалистической репутацией — уговаривает Владимира Путина не только не ехать на саммит «Большой двадцатки» в Южную Африку, но и не баллотироваться на выборы 2024 года. После этого на выборы 2024 года выставляется менее токсичная фигура, а Украина к тому времени исчерпывает не столько запас иностранной поддержки, который действительно пополняется, сколько запас собственного терпения и человеческий ресурс. Получается перемирие без мира, но не чреватое интернационализацией конфликта, что, собственно, отчасти и нужно союзникам Украины. Я говорю, что это не столько желательный, сколько реалистичный или один из реалистичных сценариев. А Путина при этом не какие-то западные люди, а Си, Рамафоса, Лула да Силва, бразильский президент, или Моди вместе уговаривают, предоставив ему массу гарантий безопасности, почета и уважения, не баллотироваться на выборы 2024 года и сажают во главе какой-нибудь организации, секретариата БРИКС.
Но это вряд ли произойдет, они же не хотят делать организацию токсичной, и это и не организация даже, а клуб. Ну, тогда сажают его на какую-то крупную международную должность — он же хочет иметь международный статус с каким-то престижем и иммунитетом! И это, конечно, только чтобы он ушел, поскольку престижа человек, принимающий такие решения, не заслуживает. И после этого с менее токсичной фигурой происходит серия разменов, а, главное, эта менее токсичная фигура некоторым образом откручивает репрессивную машину назад, понимая, что, грубо говоря, айтишник — это не только человек, который как в исповеди ай-люли-айтишника, опубликованной в «Комсомольской правде»… Что он там делал, по клавишам стучал? Что-то он такое делал, кроме того, что носил лапти или играл на свирели: то ли давил на клавиши, то ли стучал по клавишам, какой-то был хороший глагол, правильный (военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал письмо «раскаявшегося айтишника», который сначала покинул родину, а потом вернулся, осознав свои ошибки; он не «стучал по клавишам», а «давил кнопки на клавиатуре». — Полит.ру).
И Ютубы смотрел... Да, Ютубы смотрел, я бы сказал так. Трезвые люди во власти понимают, что «айтишникам» как раз тоже Ютубы надо смотреть, потому что цели развития несовместимы с определенными уровнями несвободы, культурной и прочей. Не то чтобы ничего нельзя было сделать — атомную бомбу сделали, какие-то ракеты построили, и Северная Корея тоже почти сама сделала и атомную бомбу, и ракеты, но тем не менее конкурентоспособную экономику лучше строить, инкорпорировав в эту самую экономику определенное количество людей, которым нужны и гарантии собственности, и гарантии свободы. А гарантии собственности в неправосудной ситуации, в том числе и политизированного правосудия, связаны не только с высказываниями.
Тут есть обратный пример — пример Китая, но это еще вопрос, какие там тенденции. Все-таки Китай шел к капитализму прямо из сталинизма, поэтому для китайцев, которые еще живы и находятся в активном возрасте, общая генеральная тенденция — это восхождение уровня свободы от почти нулевого до почти немыслимого. Потому что китайцы, которым было 20 лет в 1975-м году, застали буквально сталинский режим с ГУЛАГом, то есть люди, которым сейчас условно 60 лет, вполне еще жили при Северной Корее в собственной версии, поэтому все прошедшие десятилетия для них — стремительное расширение рамок свободы, в каком-то смысле не менее стремительное, чем наши 1990-е. Даже с учетом того, что Си закручивает гайки, нельзя сказать, что они скатились на прежний уровень несвободы, они это воспринимают в некотором своем контексте. Если ты китаец, который родился в 1970-м году или тем более в 1960–1965-м и находишься в возрасте, когда люди занимают управленческие должности, то ты живешь в немыслимо более свободной стране, чем та, в которой ты родился. И это закономерным образом будет немыслимо более свободная страна, которая является еще и богатой, более влиятельной и более развитой. В отрезке полувека Китай одновременно стал и более богатым, и более развитым технологически, и более more impressive — стал лучше выглядеть и более свободным. На коротких отрезках, в районе пяти-семи лет, он, конечно, движется к большей несвободе, но эта бóльшая несвобода для людей, которые сейчас живут там, воспринимается как некоторая контекстуальная флуктуация. Посмотрим, что будет дальше, но пока это так.
Огромное количество очень разумных, очень антисоветских в бэкграунде, в анамнезе людей, в том числе и моих личных друзей, не видят большой проблемы в том, что сейчас происходит при Владимире Путине. Их контекст в каком-то смысле для меня слишком широк, и я бы его сузил, но они продолжают это всё воспринимать в сравнении с тем брежневским, андпроповским, черненковским или раннегорбачевским Советским Союзом, который они еще застали, и который, конечно, был очень несвободной страной. Прежде всего, страной с железным занавесом, с полностью разорванными культурными связями с внешним миром (если не считать экспорта небольших порций классического искусства), с совершенно другим содержанием музеев и совершенно другими книжными магазинами. Мы можем пойти и купить «1984», а в 1984 году за эту книжку могли посадить, хотя это абсурдно, потому что это даже не антисоветская книжка, а просто антитоталитарный фантастический роман. Так что в этом контексте я вижу массу вещей, и не то чтобы я выдумываю этих людей — я могу назвать их имена. Это люди, которые живут как успешные современные рыночные единицы и по-прежнему не видят страшной трагедии в том, как выглядит сегодняшняя Россия, потому что для них существует этот большой контекст, сравнение с Россией Андропова. Это к вопросу о том, как себя чувствуют китайцы, поскольку я знаю таких русских и я действительно знаю таких китайцев, то есть это не вымышленные китайцы, которые смотрят на большом отрезке. Я понимаю, что здесь есть некоторое соответствие, просто Россия, что называется, «резче движется» по сравнению с тем, как закручивает гайки Си. И в той системе, где он их закручивает, которая, вообще говоря, их до конца и не раскручивала, это всё выглядит как-то плавнее. А то, как это делается в России, — это, конечно, делается с каким-то удивительным размахом, всё в косую сажень, всё как-то неповоротливо и параллельно разбивая какие-то хрупкие предметы, которые находятся рядом, но в целом вот так.
Нетоксичный преемник
И дальше многое зависит от того, какая это фигура, кто именно окажется преемником. Это может быть какой-то технократический человек из серии Собянин/Мишустин. Ничего не могу сказать про Дюмина, но как губернатора его хвалят, утверждается, что Тула при нем расцвела.
Но все равно, допустим, есть некий человек, который а) не начинал конфликт с Украиной и б) не придерживается тех взглядов, которые привели к конфликту. То есть он спокойно относится к возможности существования наряду с Россией Украины, которая является не частью русского, а частью европейского мира в каких-то более-менее нормальных границах, включая международно признанные, готов обсуждать этот вопрос, наверное, максимально его затягивая, чтобы резким пропагандистским или идеологическим поворотом не отчуждать от себя большие массы населения, а может быть, и не затягивая, если учесть политическую адаптивность и пассивность русского населения. Ведь эта самая деполитизация, которая сейчас работает на поддержку СВО, она же действительно может сработать на поддержку мира, если правильно упаковать этот мир в обертку из победы, будущего процветания и еще чего-нибудь.
Мы знаем фанатичную группу ультра-патриотов, мы за этой фанатичной группой иногда подсматриваем в замочную скважину, как и они за нами, но мы же понимаем, что большинство населения, видимо, не относится ни к нам, ни к ним, хотя границы этого большинства «не с нами и не с ними» размыты, есть масса переходных групп и переходных состояний. Одни и те же люди даже просто в разные часы дня могут занимать разные позиции по одному и тому же вопросу, и такое в России случалось, Россия не очень индоктринированная страна в этом отношении.
Вообще говоря, четкость и ясность убеждений не является важной для российского сознания чертой, как мы знаем и как это видно по истории русской церкви, по истории русского либерализма, который очень нечеток, и по истории русского права, которое так и не стало отдельным от государства правом, и границы между ними текучи. Находясь в Италии, я, например, вижу, насколько какие-то вещи были очень давно институализированы, 600–700 лет назад, и проговорены. Спор о словах здесь ведется гораздо дольше, кроме того, что католицизм вообще требует четких формулировок. Но дело даже не в этом, я думаю, что это скорее общее у католицизма, у западного права и у западной политики римское наследие, которое мы почему-то не взяли от Византии в связи с общей неграмотностью. Потому что, чтобы это наследие пересадить, нужно иметь место, куда пересаживать, а поскольку население не было способно его освоить в силу элементарной неграмотности, то пересаживать просто некуда. Его пересадили, но это очень маленькие грядочки, совсем клумбочки, я бы даже сказал, какие-то цветочные горшки. А в той же Флоренции в XIV веке 80 % мужская грамотность, и почти 70 % — женская, что совершенно немыслимо для России в то же время. Учителями тут во Флоренции были даже не священники, а нотариусы — юристы, это совершенно другая ситуация. И, естественно, когда профессиональная деятельность осуществляется через гильдии, а чтобы стать членом гильдии, ты должен заключить с ней по сути контракт и дальше должен участвовать в соответствующих процедурах, заседать в советах гильдии, читать цеховые документы, выбирать консулов, делегировать членов в несколько советов с пересекающимися полномочиями, которые управляют республикой, и это всё — XIII–XV века, то понятно, что здесь совершенно другие требования к слову внутри политической культуры.
А Россия в этом отношении чрезвычайно размыта, и поэтому вопрос войны и мира — здесь такой сердечный, интуитивный, примерно такой же, как вопрос справедливости и несправедливости. И эту интуитивность, эту сердечность и даже иррациональность и невербальность можно определенным образом повернуть в сторону мира тоже, если за это возьмется человек, который подойдет к людям с душой. Вот он с душой объяснит людям, почему мир с Украиной лучше, чем конфликт с Украиной, и если душевно объяснит, то люди душевно послушают и скажут: «А действительно, зачем это всё?» Может, сильно извиняться не будут, хотя кто-то и будет, между прочим, — в принципе, русский человек выпьет и покается. А может, и не выпьет, но покается, и на трезвую голову может извиниться: мол, что-то нехорошо вышло, Иваныч… Так что я вполне себе представляю такой же странный поворот к миру, каким был этот безумный поворот к нынешнему конфликту. Поскольку начало конфликта не является рациональным, продуманным и на логических основаниях принятым решением, а является некоторым интуитивным актом восстановления попранной справедливости и поддержано в качестве такового, то точно в таком же виде, как акт попранной справедливости, правды и даже законности в широком смысле закона, может быть и поддержка мира, она не исключена.
Мы совсем не упоминали книгу «Конец режима», но, изучая разные материалы для нее, я вот что заметил: и у суперпрогрессистского республиканского испанского, так же, как и у португальского, проекта был резкий поворот именно в сторону архаического, сознательно архаизирующего проекта, буквально вплоть до архитектурных или музыкальных маркеров. Но дело даже не в этом, там не было «официального» искусства в сталинском смысле слова, а в том, что есть период величия, этот период величия находится в прошлом — это расцвет испанской империи XV–XVI веков, расцвет португальской империи. И есть период деградации, он совпадает с периодом либерализации империи и проникновением туда прежде всего французских и английских просветительских и республиканских взглядов, парламентаристских идей, идей слома великой государственности, то есть деления великой единой нации на противоборствующие партии, которые даже вступали в гражданские войны. Вот это наследие надо преодолеть и восстановить Испанию, которую мы потеряли, — страну XVI века, над которой не заходило солнце, которая управляла миром и так далее. Я уж не говорю о само собой прилагающейся риторике христианских ценностей, семейных ценностей, последнего бастиона настоящей веры на европейском континенте — всё это есть, это проект по строительству именно архаической нации, цели которой лежат в восстановлении прошлого, а не в поиске какого-то будущего, которого у нее еще не было, но к которому можно прийти. Получается, что это намеренно архаизирующее свой собственный народ государство на всех уровнях — от искусства и символики до идеологии, одежды и, между прочим, кадрового отбора: когда у вас такая идеология, у вас в течение какого-то количества лет и даже десятилетий, пока эту идеологию воспринимают всерьез, кадровый отбор происходит по соответствующим принципам, вы архаистов и набираете в государственное управление.
Если думать, как думают многие сейчас в России, что архаизирующее государство обязательно должно начать военный конфликт, то и Испания должна была вступить в агрессивную войну. И мы видим три сходных архаических проекта в Европе, о которых я писал в книге, — из них только Греция вступила в агрессивную войну в 1974-м году, которую немедленно проиграла. И то будьте уверены, что население настолько поддерживало усилия по присоединению Кипра только потому, что это подавалось не столько как внешняя война, сколько как небольшая спецоперация, небольшой внутренний переворотик, который не потребует серьезного военного усилия. Диктаторская Португалия воевала, защищая империю, то есть вела как бы оборонительные войны. А испанский проект не только не начал собственную войну при всей его архаичности, но даже на пике успехов Гитлера остался, по большому счету, вне мировой войны.
А ведь Гитлер для них — не то чтобы образец, но один из образцов, союзник. Муссолини в большей степени, наверное, был образцом, но тоже был слишком революционным для этого именно сознательно архаизирующего проекта. Всё-таки итальянский и немецкий фашизм больше вовлекали массы населения как раз в политическую, профсоюзную и прочую деятельность, а испанский и португальский были элитарными, номенклатурными: вот мы вам делаем, а вы должны слушаться, идти за нами и подчиняться, но не надо лишней самодеятельности. Лишнюю самодеятельность в виде активной Фаланги, наоборот, всячески укрощали, пока не укротили и не превратили, собственно, в номенклатурную партию при власти, примерно такую, какой сейчас является «Единая Россия», то есть партию бюрократии, карьерных лифтов и так далее. Я ещп раз говорю: вот суперархаическая страна с эксплицитно-архаическим проектом, но она тем не менее не только не начала никакой собственной войны, но и не вступила в мировую войну даже в тот момент, когда, казалось бы, военное счастье находится на стороне ее союзников, хотя под шумок забрать какое-нибудь французское Марокко, Алжир и Гибралтар сам бог велел. Там был момент, когда это равновесие было очень хрупким, и Франко действительно вот-вот был готов вступить в мировую войну на стороне своих бывших немецких и итальянских союзников по захвату власти и гражданской войне. Если бы он вступил, то было бы написано десять тысяч томов о том, как это было неизбежно — что вся идеология, вся риторика и вся стилистика этого режима естественным образом делала из Испании страну-агрессора и участника антилиберальной и антилевой фашистской оси, но этого не произошло. Это было неизбежно, это было бы логично и это следовало буквально из всего, но этого не случилось.
Я думаю, что Россия была примерно в этом положении до 24 февраля прошлого года. Да, это случившееся было абсолютно логично, оно следовало буквального из всего, что говорилось про Украину начиная с 2014 года и отчасти даже начиная с первого Майдана, с 2004–2005 годов. Даже из того образа истории, из того образа русской триединой нации, который, собственно, старше Путина и старше советских учебников истории, это буквально по карамзинским и допетровским лекалам описывалось.
Это отчасти, кстати, восходит к деятельности украинской и киевской интеллигенции XVII века, которая тогда тоже в своих интересах эксплуатировала концепцию триединой нации, в частности, для того, что внутри большого и перспективного московского царства успешнее делать карьеру, потому что если ты иностранец, то что ты занимаешь высокие посты в иностранной державе Московии? А вот если ты часть единого народа, то тогда понятно, почему, собственно, ты в этой самой Московии то митрополит, то игумен, то какой-нибудь дьяк или воевода на важной позиции, тогда это было важно и для той стороны тоже.
В общем, то что случилось 24 февраля, с одной стороны, было логично, было неизбежно, но тем не менее до прошлой зимы этого могло не произойти. Это ровно та история, когда логичность и неизбежность не являются предпосылками реальности, не являются ее дефолтными по умолчанию триггерами, то есть это могло не произойти при всех тех же вводных, которые мы имели. Почти всё облегчало, подталкивало, рационализировало, создавало соответствующее настроение и атмосферу, но тем не менее само по себе не являлось причиной неизбежного следствия. В этом отношении я абсолютно поддержку людей, которые находились внутри российской государственной системы и просто жили в России как граждане России и делали какие-то свои проекты — открывали булочные, дома культуры, создавали рок-группы, пытались придумать новые университеты и так далее. Это были люди, которые осознавали некоторые риски, но прямой неизбежности краха всего не было. Если бы она была, то люди совершенно по-другому себя вели бы, скорее всего. Конфликта могло не быть абсолютно точно так же, с той же вероятностью, с какой он мог случиться.
Ключевая ошибка
На рубеже 1990–2000-х был момент, когда массы российских граждан допустили ошибку — или даже не массы, а скорее слои влиятельных российских граждан: действительно, был консенсус бизнеса и либеральной интеллигенции по поводу приемлемости определенных элементов автократии внутри молодой российской республики. Этот консенсус был в том, что мы действительно часть институтов России сделаем на время декоративными, для того чтобы избежать красного реванша. Потому что если эти институты будут не декоративными, то ими воспользуются силы красного реванша, и уж тогда они точно превратят эти институты в декоративные. Как большевики: они же сохранили все эти лозунги свободы, выборы, но всё это, естественно, немедленно перестало работать буквального в течение года после того, как они взяли власть. И то же самое сделают силы красного реванша сейчас. Поэтому лучше мы сейчас эти институты на время превратим в декорацию, мы лучше сами сделаем то же самое, что большевики, но в более мягкой форме — сами и на время, чем позволим это сделать другим — быстро, жестко и навсегда.
Вот примерно так многим виделся этот выбор — может, отчасти и нам — на рубеже 1990–2000-х годов. И, наверное, имеет смысл говорить о том, что эта попытка создать декоративную демократию на месте настоящей в целях спасения ее от еще более декоративной была большой-большой ошибкой, потому что страны Центральной и Восточной Европы пережили возвращение бывших коммунистов к власти и пошли дальше: Польша с Квасьневским, Венгрия… Венгрия сейчас как раз строит гибридную автократию при бывшем молодом либерале-экономисте Орбане, который был одним из отцов экономических реформ венгерских девяностых. Конечно, там, в Центральной Европе, были свои особенности: там был национальный движок, национально-освободительный элемент, который тамошних коммунистов делал менее страшными, потому что у наших коммунистов движок был совершенно другой — он был имперский, был ностальгический, не было консенсуса по поводу того, что мы идем в Европу, какой был в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии и Румынии, несмотря на временное локальное возвращение бывших коммунистов-комсомольцев во власть. У нас не было этих двух ограничителей, поэтому русской интеллигенции и молодому русскому предпринимательскому сословию, которое к тому же осознавало, что оно не столько предпринимало, сколько делило, и делило не всегда честно, возвращение коммунистов казалось чем-то гораздо более страшным.
И тогда было принято вот это губительное решение превратить институты в декоративные. Не убрать, не уничтожить — не было у русских Пиночета, о котором тоже, кстати, с некоторым придыханием говорили люди вроде бы либеральных взглядов. Но даже те, кто не хотел русского Пиночета, хотели контролируемой демократии. Как выяснилось, контролируемая демократия контролируется совершенно не тобой. И повторилась ошибка германского истеблишмента 1930-х годов, когда немецкие элиты были уверены, что люди с деньгами, весом, землей, недвижимостью, аристократы, промышленники, всемирно известные интеллектуалы уж как-нибудь справятся с выскочками и крикунами без денег. Не справились. Вот какая-то похожая вещь произошла у нас, то есть люди думали, что уж они-то с такими деньгами и с такими международными связями справятся с режимом бывшего молодого офицера и вице-мэра. Это же не какой-то тяжеловес, он будет слушаться, будет советоваться… Но выяснилось, что нет, так не получилось.
А люди, которые открывали булочные или СМИ о культуре — какие к ним могут быть претензии? Ну, можно было не открывать булочные, чтобы все умерли с голоду и побыстрее захотели бы сдаться Соединенным Штатам Америки.
«Конец режима» и современная Россия
Это не книга про Россию, в этой книге нет замаскированного под кого-то Путина или замаскированного под кого-то Пригожина или Патрушева. Я не шел от Путина или Патрушева, но когда ты видишь людей там, ты понимаешь, что у этих людей могут быть аналоги здесь, в зависимости от поворота. Эта книга скорее не про историю, а про политическую антропологию, все-таки люди не сильно эволюционировали как строители коллективов с тех пор, в этом отношении аналогия вполне возможна.
На этом построено всё человеческое образование — на том, что мальчик, читающий в школе про Гармодия и Аристогитона, тираноборцев и убийц сыновей-преемников Писистрата, будет извлекать урок о противостоянии, узурпации власти и вынесет из этого некое зерно, некий интеллектуальный кристалл в свою решетку, в свою ордерную сетку, которую он, как на фасад здания, будет накладывать на окружающую реальность. Когда я пишу эту книгу, я, в общем, следую совершенно обычной и, я бы даже сказал, школьной хрестоматийной традиции европейской образованности, и не только европейской, но еще и человеческой, когда вы извлекаете из прошлого некоторые элементы, для того чтобы построить из них некую ордерную сетку. То есть вы относитесь к прошлому как к некоей ордерной системе, которая бесконечно воспроизводится в течение тысячелетий как конструкция здания, как конструкция фасада здания, как то, на что вы в первую очередь смотрите, когда видите каждое новое здание. Это помогает вам упорядочить ваше понимание того, как это здание вообще держится, как оно стоит, как оно устроено и, строго говоря, как оно комбинирует конструкцию и красоту. Поэтому, собственно, от нее и не отказываются, а если и отказываются, то это всегда отказ, находящийся в диалоге или в борьбе с этой ордерной системой. Вот это, строго говоря, то же самое, и я пользуюсь этим точно так же, как гимназические или какие-нибудь римские учителя, которые рассказывали греческую историю детям в грамматических школах.
Сознательный элемент выбора состоит в том, что есть отброшенные случаи, а отброшенные случаи — это не менее поучительные случаи Азии и Латинской Америки. Хотя Латинская Америка нам все-таки ближе, чем Азия, но я счел более интересными именно европейские случаи, поскольку российский читатель, несмотря на все заявления, — пока европейский читатель. Он Дон Кихота и Одиссея знает, а китайские и индийские аналоги — нет. Поэтому ему сложнее проассоциировать себя с филиппинцами, хотя, наверное, в каких-то отношениях русский человек, может быть, даже ближе к жителям Филиппин, но он этого не осознает, а вот проассоциировать себя с греком или с испанцем в целом проще — и визуально, и по общим христианским основаниям, и по тем же имперским болям, которые присутствуют во всех моих трех кейсах. Потому что все три страны, попавшие в этот плен — в двух случаях очень длительный, плен 40-летней диктатуры, а в третьем случае более короткий, — это страны с очень сильным имперским ресентиментом в том смысле, что они были великими, а потом стали менее великими. И поэтому бросились решать сложную задачу — во-первых, вернуть утерянное величие, во-вторых, понять как произошла утрата величия и кто в этом виноват, и в-третьих, наказать виновных в утрате величия. Поразительным образом во всех этих случаях, кроме борьбы с вызовом с Востока, с коммунизмом, классическая либеральная демократия была определена если не как противник, то как виновник утраты прошлого величия. Соответственно, преодолевая в себе либерала, испанец, португалец и грек середины XX века восстанавливал (или думал, что восстанавливает) утраченное величие своей незаслуженно опустившейся во второй и третий разряд держав родины. И это, например, более понятная конструкция, чем если бы я описывал, скажем, выход из диктатуры Филиппин или Южной Кореи, которые по-своему тоже очень поучительны, но которые в значительно меньшей степени построены на обиде на того, кто отнял прошлую глобальную значимость, потому что ни Корея, ни Филиппины при всем богатстве их истории ею не обладали. Россия, Испания, Португалия и Греция воспринимают себя как государства с утраченной мировой значимостью.
Кроме того, это, конечно, страны, где населению прививался комплекс взглядов, связанных с особым путем, третьим путем. И даже когда вроде бы прогрессивные португальские офицеры совершили революцию и свергли диктатуру в 1974 году, они же, когда свергли, не сказали: «О, сейчас мы построим либеральную демократию, как в Италии или где-нибудь в Голландии». Они тут же, немедленно пошли искать другой вариант особого пути, потому что сама идея, что мы особенные и у нас свой особый отдельный третий путь, была настолько естественна и настолько общепринята для португальского мышления, мессианство, глобальность, транскультурность португализма были настолько само собой разумеющимися, что мысль «а давайте просто сделаем так, как это устроено в какой-нибудь другой небольшой европейской стране» даже не пришла им в голову — не их уровень. К этому пришлось идти, преодолевая себя. А в Южной Корее, конечно, при всем богатстве истории XX века, при совершенно поразительных, совершенно литературных и совершенно трагических моментах в жизни оппозиции и в жизни самого диктатора (в конце концов у Пак Чон Хи застрелили жену в театре, это какие-то такие очень красочные вещи, которые просто напрашиваются в книгу) — вот этого не было. Ну, и бэкграунд не христианский, и сознание, хотя в Южной Корее много христиан, но это протестанты и это привнесенная религия. Как ни странно, Южная Корея может быть более интересным случаем для украинского автора, вот украинскому автору написать бы историю становления Кореи. Потому что там как раз комплекс преодоления влияния и культурной зависимости от великого соседа, и от сознания, что мы тоже можем сами и тоже имеем значение, и вообще, тот факт, что у нас не было государственности в течение многих столетий, никак не мешает нам иметь ее в будущем, он довольно важен. В общем, это не книга про Путина, переодетого во Франко, и даже не про Франко, переодетого в Путина, но это, безусловно, книга, построенная на фундаменте некоторых очевидных параллелей, которые я сейчас описал: поиск виновных и реванша за утраченную глобальную значимость, особость, комплекс превосходства, прививаемый правителями и собственным идеологическим аппаратом. И отчасти опирающийся на реальные культурные достижения, потому что мы вот первые полетели в космос, а они, испанцы и португальцы, вообще-то Америку открыли, а это тоже нехило, за 500 лет до того, как мы в космос полетели, — открыли, освоили, крестили, застроили.
P. S. Рецепт возвращения к нормальности
Сделано столько шагов по денормализации, что любой шаг к условной нормализации уже будет рецептом. Например, нужно отменить статус иностранных агентов.
Отменить все законы марта 2023 года, то есть все законы, криминализирующие обычную общественную дискуссию, наказывающие за употребление слов. Там еще надо, кстати, посмотреть, нет ли до марта 2023 похожего закона.
Символически было бы значимо отменить то, с чего всё началось, — собственно, то, с чего начался архаический проект, потому что это символически возвращало бы нас в ту развилку, с которой мы пошли по этой дороге и в результате действительно пришли к той архаике, где у нас кондотьеры идут на замки правителей и скоро будут куда-нибудь насыпать яды из перстней.
Конечно, надо отменить «закон Димы Яковлева», с которого всё началось. И примерно тогда же появившийся закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.