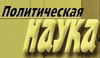Глобализация ставит под сомнение национальный суверенитет. А если страна еще и немодернизирована, то политика начинает сильно отставать от экономики - так происходит в России. Эти процессы политологи анализируют с помощью модели "воронки причинности", утверждая, что на разные этапы учреждения демократии влияют разные факторы - международные, государственные, социально-экономические, культурные, политические, психологические. Однако эта модель не описывает всех сторон ситуации. Гораздо более эффективным оказывается ее объяснение через понятия ядра и периферии, где "ядро" - это капиталистическая экономика, а периферия - советская империя. "На периферии попросту не хватает ресурсов для поддержания относительно эффективной системы власти, и это многое объясняет в нынешних российских бедах", - считает политолог В.А. Ковалев. И если все "хорошие места" в ядре уже заняты, то российским регионам остается быть "периферией периферии". А сегодняшняя глобализация, которую иногда называют «глобализацией номер два», заставляет обратиться к урокам первой «глобализации» – состоянию цивилизации перед Первой мировой войной.
Сегодня «Полит.ру» публикует статью
В.А. Ковалева о соотношении процессов демократизации и глобализации в регионах Российской Федерации из последнего выпуска сборника ИНИОН «Политическая наука».
Современная глобализация противоречивым образом влияет на процессы демократизации в мире, в том числе в Российской Федерации. С конца 1980-х – начала 1990-х годов, ознаменованных триумфом так называемой «третьей волны демократизации», глобализация ставит под вопрос процессы демократизации во многих странах, подрывая их суверенитет. Глобализация по-американски опять вернула в повестку дня теории модернизации, актуализировала вопрос о связи между политическими и экономическими факторами. О какой политической демократизации может идти речь ввиду экономической демодернизации огромных регионов, деградации хозяйства целых государств, расширяющейся пропасти неравенства между людьми и территориями?
Эти противоречия в полной мере ощутили на себе Россия и субъекты Российской Федерации.
Если роль национальных государств и возможности их правительств осуществлять суверенное управление существенно сокращаются, то это ставит под вопрос саму возможность демократизации для таких государств. Как считает К.Зегберс, «в странах Восточной Европы, где после 1989 г. шёл процесс строительства нации-государства (nation building) и возникали новые государства, их роль, казалось бы, возрастала. Однако на деле, начиная с 90-х годов, она (в этом регионе, как и везде) была в структурном и сущностном отношениях ослаблена»[1] . Глобализация рынков, усиливающееся давление со стороны субнациональных акторов и всеобщего кризиса государственных бюджетов ставили пределы для национальных правительств в перераспределении средств и возможностях контроля. Таким образом, существенно изменяется картина мировой политики.
Если посмотреть на то, как Россия входит в эти глобальные процессы, то в 1990-е годы было порой вполне уместно говорить о существенном ущемлении ее государственного суверенитета. Население России, особенно в провинции, вынуждено к тому же вести жестокую борьбу за выживание, что не способствует массовому демократическому участию.
Аналитическая задача, стоящая при изучении российских регионов (одного или нескольких), состоит в том, чтобы охарактеризовать значимые факторы, влияющие на политическое развитие в российской провинции и общероссийскую политическую трансформацию. Некоторые учёные, следуя политологической моде 1980-90-х годов, интерпретируют эти процессы в терминах «демократического транзита». В отечественной литературе, например, делались попытки построить систему взаимодействия структурных и процедурных факторов, используя идею «воронки причинности»
А. Кембелла и его коллег. При этом различались внешние условия и внутренние факторы, «структурные, то есть социально-экономические и культурно-ценностные предпосылки и условия, и процедурные, то есть особенности и последовательность конкретных решений и действий, осуществляемых ограниченным кругом инициаторов и непосредственных политических участников процесса демократизации»[2]. А.Мельвиль считает, что методологическая модель анализа структурных и процедурных факторов, влияющих на ход демократического транзита, могла бы быть представлена с использованием двух разнонаправленных «воронок причинности»: на фазе учреждения демократии действуют в первую очередь международные факторы, государственно- и нациеобразующая среда, а затем социально-экономические, социально-классовые, культурно-ценностные, политические, индивидуально-психологические факторы. После учреждения демократии в процессе её консолидации «воронка причинности» выстраивается в обратном порядке[3] .
Если ставить во главу угла именно демократизацию политического режима, то данная модель выглядит весьма перспективно. Но вопросы, тем не менее, возникают: прежде всего, слишком ясно выступает телеологизм этой схемы. Почему именно демократия и ее консолидация? Ведь легко заметить, что при других идеологических посылках та же схема будет выглядеть совершенно по-иному. Например, демократизацию в мире можно рассматривать или с точки зрения ее кризиса на современном Западе, когда процесс глобализации, выходя из–под контроля национальных государств, порождает мировую олигархизацию, или с точки зрения упадка самих демократических институтов на Западе, борьбы либерализма и коммунитаризма и т.д. Если сокращается роль государства в эпоху глобализации, то падает и роль институтов демократии, рассчитанных именно на национально-государственное устройство, а в глобальных масштабах соответствующие демократические институты еще не сложились. К «демократическим транзитам» относится и замечание о том, что согласно транзитологическим схемам наиболее успешно переход осуществляется через пакт (сговор) элит, а участие массового актора («демоса») лишь усугубляет положение[4]. Вообще, при изучении российской политической трансформации и региональных политических процессов делать упор на демократизацию мы считаем ошибочным, сущность происходящих процессов в таком случае может быть подменена видимостью.
Надежда на региональную демократизацию провалилась так же, как потерпела фиаско парадигма транзита в политологии, в русле которой эти надежды и имели место быть (разумеется, не для населения, а для теоретически рефлексирующих наблюдателей). Кризис парадигмы транзита признается уже и на Западе. Например, вице-президент Фонда Карнеги (Вашингтон) Томас Карозерс пишет о большинстве стран третьей волны (демократизации), которые «так и не пришли к хорошо функционирующей демократии или, очевидно, не развивают и не углубляют прогресса, пусть даже незначительного, достигнутого на начальном этапе»[5]. Эти слова совершенно справедливы относительно существующих порядков в большинстве региональных режимов в России. Разве что, воспользовавшись другими терминами Карозерса, можно говорить о смене «режима доминирующей власти» «бесплодным плюрализмом», что характерно как для колебаний на федеральном, так и на региональном и местном уровнях российской политики»[6].
***
Если воспользоваться подходом И.Валлерстайна, можно сказать, что борьба между «ядром» капиталистической мир-экономики и советской мир-империей была проиграна последней. Как следствие, наступило резкое ослабление государства, а периферийное положение в мир-экономике несовместимо с существованием сильного государства. На периферии попросту не хватает ресурсов для поддержания относительно эффективной системы власти[7], и это многое объясняет в нынешних российских бедах. По мнению Л.Ионина, «распад СССР и возникновение новой России означали отказ от глобальной идеи и соответственно от её мотивирующей и побуждающей силы... И один из полюсов мирового влияния, мировой силы мгновенно и незаметно исчез с мировой сцены»[8] .
Здесь не место подробно останавливаться на проблемах социалистического периода в истории страны. Напомним только мнение еще одного отечественного исследователя: «Коммунизм (в своем реальном, а не программно-идеологическом смысле) – это не авангард человечества, а защитная реакция разрушающейся под напором «первого мира» традиционалистской цивилизации»[9]. (Уместно сравнить с высказыванием Ги Дебора: «Фашизм – это технически оснащенная архаика»[10].) В общем, социализм может рассматриваться либо как попытка собственного пути модернизации (догоняющей) в стране, где переход к Модерну по ряду причин задержался, либо как откат от «современного» к традиционному» обществу. На наш взгляд, в советском коммунизме было и то и другое.
Преодолеть свое отставание России не удалось ни в результате революции, ни путем «перестройки». Наоборот, рванувшись в «ядро» цивилизации, страна оказалась практически на обочине «цивилизованного мира». Конечно, рынок и демократия действительно были важнейшими средствами западного пути в капитализм. Требуется, однако, доказать, что этот путь можно повторить: дело в том, что все хорошие места в «ядре» современной мир-экономики давно заняты[11]. Таких доказательств нашей стране продемонстрировать пока не удалось. Выхода из петли зависимости полупериферии, догоняющей модернизации или статуса периферийной цивилизации[12], для России пока не нашлось. Разумеется, это произошло и в силу роковых ошибок советского руководства, имевшего крайне странные и неадекватные представления о современных глобальных процессах. В этократическом обществе, каковым, в сущности, являлось советское, катастрофа политической системы не могла не стать и катастрофой общества, точнее, определенного типа развития и цивилизации[13]. В таком подходе очень много верного. Когда государство было ещё сильно, часть правящей верхушки усиленно сопротивлялась проведению необходимых экономических преобразований. Потом, с крахом КПСС, государство стремительно разрушается, и прежде чем удалось на протяжении 1990-х годов добиться какого-то равновесия, решительные шаги стали попросту невозможны как в политике, так и в экономике. Оставалось лишь полагаться на «невидимую руку рынка», но «кривая вывезла» лишь к продолжению системного кризиса. Руководство страны несет за это полную ответственность, о чем, говоря о влиянии глобализации на нашу страну, пишет М.А.Молчанов: «Только правящая элита несла всю полноту ответственности как за тот или иной выбранный ею политический курс, так и за его последствия для населения страны»[14].
Великая иллюзия теории модернизации состояла в обещании сделать всю систему ядром, без периферий. Сегодня очевидно, что это было по-просту невозможно. Эволюция капитализма как исторической системы ведет к поляризации и к абсолютному, а не только относительному обнищанию большинства[15].
В свете этого невразумительно выглядит теоретическое начетничество: рассуждения о «третьей волне» демократизации (сравни с теорией мирового революционного процесса) или перспективах консолидированной демократии (идеологический аналог – «развитой социализм»). Вместо подобных рассуждений в каждом конкретном случае надо исходить из интересов развития страны и учитывать объективные социально-экономические показатели.
Тем более, когда господствует система несправедливого неравенства. Современная Россия – это не только почти четырнадцатикратный разрыв между богатыми и бедными, но и пространство разоряемой политикой Центра периферии, углубляющаяся пропасть между Москвой и провинцией, которая практически колонизируется столицей. На этот счёт существует масса статистических данных (например, уровень жизни в различных регионах Российской Федерации различается в 18-20 раз, в то время как в развитых странах аналогичный показатель не превышает 3-4 раз. Об этом на одном из "круглых столов" 7-го Петербургского экономического форума говорил Александр Казаков, председатель комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике. Причиной такой дифференциации является, по его мнению, «невнятная региональная политика центральной власти»[16].)
В наибольшей степени неравенство воплощается в пропасти между столицей и остальной Россией. Поэтому можно, с одной стороны, говорить о типологической схожести политического режима московских и, скажем, калмыцких институтов, но техники взаимодействия и объемы привлекаемого капитала (не только финансового, но и политического, культурного и др. – в значении термина «капитал», которое придавал ему П.Бурдье), разумеется, в Москве являются во многом другими.
Быть периферией периферии – такова нынешняя судьба российской провинции. Если раньше она крепила мощь сверхдержавы, поставляя сырьевые ресурсы или делая оружие (взаимодействие ТЭКа и ВПК состояло в том, что первый давал ресурсы второму, в итоге страна не смогла пройти между «Сциллой военных расходов и Харибдой хозяйственной неэффективности»), то при капитуляции нашей страны в «холодной войне» участь ее территорий стала жалкой – в лучшем случае быть источником дешевого сырья и рабочей силы.
Вообще-то процессы децентрализации и демократизации, начавшиеся в стране с конца 1980-х - начала 1990-х годов, казалось бы, открывают перед регионами неплохие перспективы для реализации своего потенциала. Однако глобальные сдвиги и неоправданные шаги руководства страны значительно ухудшили положение нашего государства на международной арене, ослабили его; выгоды от преобразований, если они и были, достались в основном столичным олигархическим и компрадорским кругам. Положение усугубилось огромной неравномерностью развития регионов страны, во-первых, и настоящей пропастью между Москвой и провинцией, во-вторых. Собственно, отношения развитые страны – Россия (федеральный центр) – российские регионы в последнее десятилетие можно описать в терминах колонизации[17] и возникновения соответствующих экономических и политических механизмов. Можно сказать, что новый политический порядок навязывался регионам из Москвы.
Глобализация, которую обычно связывают с качественно новым уровнем интернационализации экономических связей и распространением информационных технологий, не приносит российской периферии ощутимых выгод, скорее, наоборот. Конечно, в последние годы в регионах появился Интернет и т.п., но то, что они получают в области информационных ресурсов, не сравнимо с тем, что они отдают, когда речь идет о ресурсах природных, сырьевых, на невыгодных условиях. Ни о какой равноправной кооперации речь идти не может.
Опасное ослабление государства накладывается на вопиющую неравномерность развития регионов. При ослаблении Центра эти противоречия стразу же обострились, коль скоро Центр играл в 1990-е годы роль некоей фактории в системе «колониальной демократии» и компрадорского капитализма. Последнее десятилетие в стране прошло под знаком децентрализации, которая прикрывалась федерализмом и сопровождалась обнищанием населения в эпоху «дикого капитализма» 90-х. Можно сказать, что «новорусский» капитализм проектировался и создавался согласно представлениям о буржуазном обществе XIХ столетия, которые накрепко засели в головах новоявленных сторонников «открытого общества», что в свое время привело к появлению учения о «базисе» и «надстройке», классовом антагонизме и т.д. Насколько значимы вообще социально-классовые, социально-экономические факторы сами по себе, не попадаем ли мы в ловушку экономического или социологического редукционизма? Безусловно, отношения в сфере политики обладают сегодня очень высокой степенью собственной автономии. Экономические и социальные расколы должны быть актуализированы в политическом взаимодействии, иначе они просто не будут учитываться властью, станут для реальной политики ничтожной величиной. Приведем простой пример из российской действительности последнего десятилетия. Так называемые «реформы» проводятся российскими властями при почти полном игнорировании интересов многочисленных социальных групп (допустим, тех же бюджетников, не принадлежащих к числу госслужащих). Эти обездоленные миллионы, конечно, недовольны, и у них есть свои интересы. Но практически отсутствует политический «переводчик» этого недовольства в сферу политики, поэтому их интересы игнорируются, и миллионы дееспособных, честных и объективно полезных Отечеству людей продолжают оставаться у «разбитого корыта», на берегу унижений, бесправия и нищеты. Правят бал другие, в первую очередь, «олигархи», чей интерес хорошо артикулирован и агрегирован по отношению к политической системе. Впору задаться вопросом о роли в современной России массового актора – значит ли он вообще что-нибудь в период между выборами?
Сейчас «свободная игра рыночных сил» в холодной и бедной стране, олигархические спекуляции и т.п. дополняются командно-административным ресурсом во вполне советских традициях. Только если в социалистические времена Москва изымала у страны дефицитные продукты питания (пресловутую колбасу), то сейчас Центр отбирает у провинции деньги, выкачивая их уже не только через банковские филиалы-«пылесосы», налогообложением из Москвы за производство нефти, газа, металла, но и дальнейшим перераспределением в свою пользу налогов (уже больше половины!), которые с таким трудом собираются на территориях. При подобных «правилах игры» денег на зарплату бюджетникам и коммунальщикам в субъектах федерации всегда будет не хватать, и у российских регионов, за небольшим исключением, не останется других перспектив, кроме дальнейшей деградации.
Тенденция к увеличению разрыва между богатыми и бедными стратами и территориями – это сейчас отнюдь не только российская проблема, и мы многого не поймем, если очертим анализ рамками отечественных границ. Модный ныне немецкий социолог У.Бек замечает: «Заблуждение заключается в том, что глобализация включает в себя только лишь глобализацию. Это не так. Речь идет также и о локализации. Нельзя даже подумать о глобализации, не обратившись при этом к вполне конкретным территориям и местам[18]). Необходимость рассматривать локальные (региональные) проблемы как обратную сторону глобальных противоречий была очевидной уже в минувшее десятилетие. Это хорошо просматривается на примерах «отсталых» стран, тех государств, чей суверенитет находится под вопросом. Россия после распада СССР оказалась в их числе. «Глотание суверенитета» («берите суверенитета, сколько проглотите»), произвол региональных «касиков» и т.п. стали обратной стороной медали, следствием распада Большой России (Советского Союза).
В 1990-е годы вполне обоснована была тревога, что мировая глобализация и региональная суверенизация приведут к распаду не только Советского Союза, но и России. После уничтожения «советской империи» в странах СНГ так и не возникли современные государства. Как полагают некоторые исследователи, федерализм или унитаризм не играют здесь решающей роли. Мы согласны с тем, что как политическое явление федерализм вторичен, федерализм полифункционален, федералистский выбор ситуационно обусловлен[19]. Гораздо важнее политический режим в стране, хотя при провозглашении «федерации» в ее субъектах возможностей для вариантов произвола значительно больше. За десятилетие в России сложился не цивилизованный федерализм, а, скорее, децентрализованное государство. Уровни власти соревновались между собой в нарушении законов.
Но и нынешнее выстраивание административной вертикали мало радует.
С приходом к власти Путина начался новый период, но время для выгодного России вхождения в процесс глобализации утрачено практически бесповоротно. За российской экономикой в основном закрепился статус сырьевой периферии в мировом разделении труда; российская демократия, скомпрометированная в годы ельцинской смуты, не дает в обозримом будущем серьезных шансов на формирование ответственной отечественной элиты, которая могла бы вытащить «Русь-тройку» из колеи, прямиком ведущей в «третий мир». Путинская стабильность, увы, пришла слишком поздно.
В этой связи не вызывает особого восторга и процесс унификации регионального законодательства и видимое прекращение региональной суверенизации. В условиях, когда на всех уровнях теневые практики доминируют над формально-правовыми нормами и институтами – это не такое уж большое достижение. Нам говорят об экономическом росте (о восстановлении уровня пятнадцатилетней давности), но страна (дальше-больше!) будет демодернизироваться, увязая в зависимости от сырьевого экспорта, обременяя свою огромную и плохо обустроенную территорию слишком «тяжелым» и примитивным для сегодняшнего дня производством. При падении нефтяных цен в любой момент так называемый экономический рост сменится спадом.
Москва и остальная Россия – это уже сейчас два разных мира. Столицу можно сравнить с важным узлом глобальной сети, концентрирующим власть, деньги, символические и другие ресурсы, посредством которых контролируется окружающее пространство. А фактически столица страны – это фактория Запада, и стоит ли удивляться, что именно здесь принимались решения об одностороннем разоружении, безумных геополитических уступках, приватизации через ваучеры или залоговых аукционах.
Присущие многим странам острые противоречия между Центром и периферией накладываются в современной России на общий, системный кризис, подкрепляемый процессами глобализации и подкрепляющий их. Россия все больше и безнадежнее отстаёт в экономике от наиболее развитых стран; регионы России, слабея экономически, теряют политические и культурные возможности отстаивать свои позиции перед лицом Москвы. «Гравитация» российского центра слишком сильна, и разрыв с провинцией нарастает. В углублении этой пропасти – основная угроза российскому единству.
Политические конфликты современного глобального мира, противостояние столицы России и провинции, перетягивание каната между региональной властью и местным самоуправлением – это не случайные аномалии. Их наличие обусловлено отношениями «центр – периферия», контрастами в социальном и культурном развитии. И в отечественной и в западной науке существуют прямо противоположные взгляды на эти проблемы. Одни предлагают поддерживать, прежде всего, лидеров («регионы-локомотивы», наиболее развитые города), другие настаивают на мерах по восстановлению единства разорванного политико-экономического пространства, перераспределении ресурсов в пользу аутсайдеров. В советские времена использовались обе эти стратегии: вспомним об «образцовом коммунистическом городе» или подтягивании национальных окраин – советских республик. «Подтянувшись», последние предпочли формальное отделение.
С тех пор эти проблемы не стали легче. Свобода для сильных или равенство для слабых – разве эта дилемма стоит только для Москвы и не-Москвы, Центра и регионов? Нет, конечно, ибо схожие дилеммы возникают и в отношениях между муниципальными образованиями практически во всех регионах России. Известный отечественный исследователь пишет в книге о реформе местной власти в городах России: «Решение на уровне центр-периферийных отношений дилеммы между свободой и равенством в пользу последнего фактически означает равенство в нищете. Но и решение в пользу свободы оказывается невозможным при низком уровне муниципальной автономии. Таким образом, от политической и экономической автономии местного самоуправления в значительной степени зависит, будут ли российские города частью современной экономической, социальной и культурной системы ХХI века или же останутся заложниками беспомощной, бесперспективной и бессмысленной российской периферии»[20].
Гуманнее, наверное, было бы не доводить дело до полного разорения «бессмысленной российской провинции», вспомнив хотя бы о кампании по ликвидации малых «неперспективных деревень». «Перспективные» центры, вырвавшись вперед, вовсе не жаждут серьезно помогать тем, чьи ресурсы они поглотили для своего рывка – и мировой, и отечественный опыт, как правило, доказывает это.
Нынешняя глобализация, которую иногда называют «глобализацией номер два», заставляет обратиться к урокам первой «глобализации» – состоянию цивилизации перед Первой мировой войной. Тогдашний мир держался на либеральной утопии, в основе которой лежали система равновесия сил, международный золотой стандарт, саморегулирующийся рынок, либеральное государство[21]. За «глобализацию номер один» пришлось заплатить двумя мировыми войнами.
«Вашингтонский консенсус» и проводимая на его основе нынешняя глобальная политика чревата не менее катастрофическими последствиями, хотя их конкретного воплощения сегодня никто предугадать не может.
Страшный разрыв между «золотым миллиардом» и остальным человечеством, углубляющаяся пропасть между Москвой и остальной Россией не сулят ни миру, ни нашей стране спокойного будущего.
[1] Зегберс К. Сшивая лоскутное одеяло... Шансы и риск глобализации в России // Pro et Contra. – М., 1999. – Т.4, № 4. – С. 67.
[2] Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. – М., 1999. – С. 10.
[3] Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам // Полис. – М, 1998. – №2. – С.22.
[4] См., например.: Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. – М., 1998.
[5] Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. – М., 2003. – №2. – С. 48.
[6] «В странах, политическая жизнь которых отмечена синдромом бесплодного плюрализма (…), обычно существует некоторая политическая свобода, регулярно проводятся выборы и происходит чередование у власти действительно отличающихся друг от друга политических группировок. Несмотря на эти положительные признаки, демократия остается поверхностной и проблематичной. Политическое участие, хотя и достаточно широкое во время выборов, не простирается далеко за пределы голосования. Политические элиты всех главных партий или группировок воспринимаются массовым сознанием как коррумпированные, неэффективные и эгоистичные, глубоко безразличные к судьбе страны. Чередуясь у власти, они только спекулируют на её проблемах, не решая ни одной из них. Общественное мнение серьезно разочаровано в политике, и, хотя всё ещё сохраняет приверженность идеалам демократии, чрезвычайно негативно относится к политической жизни. В целом политика воспринимается как затхлая коррупированная область господства элиты, от которой страна не видит ничего хорошего…» (Там же. – М., С. 50).
[7] Валлерстайн И. Россия и капиталистический мир-экономика, 1500-2000 // Свободная мысль. – М., 1996. – №5. – С.37.
[8] Ионин Л. Прагматизм глобальной идеи // НГ-сценарии. – М., 2000. –9 февр.
[9] Кара-Мурза А. Как возможна Россия? – М., 1999. – С.85.
[10] Дебор Г. Общество спектакля. – М., 2000. – С. 67.
[11] Валлерстайн И. Указ. соч. – С. 40.
[12] Яковенко И.Г. Эсхатологическая компонента российской ментальности // Общественные науки и современность. – М., 2000. – №3. – С.91.
[13] Фадин А. Модернизация через катастрофу? (Не более чем взгляд) // Иное: Хрестоматия нового российского самосознания. – Т.1. Россия как предмет. – М. 1995. – С. 330.
[14] Молчанов М.А. Истоки российского кризиса: глобализация или внутренние проблемы // Полис. – М, 1999. – №5. – С.106.
[15] Валлерстайн И. Указ. соч. – С.42.
[16] www.utro.ru (20.06. 2003)
[17] Но здесь речь идет о территориях, обладающих хотя бы сырьевыми ресурсами; другие в процессе своей деградации будут полностью предоставлены самим себе.
[18] Бек У. Космополитическое общество и его враги // Журнал социологии и социальной антропологии. – М, 2003. – №1. – С. 31.
[19] Каменская Г.В. Федерализм: мифология и политическая практика. – М., 1998. – С.173-174.
[20] Гельман В. Реформа местной власти в России: сравнительная перспектива // Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. Автономия или контроль? Реформа местной власти в городах России. 1991 – 2001. – СПб., М., 2002. – С. 376 – 377.
[21] Поланьи К. Великая трансформация: Политические и экономические препосылки нашего времени. – СПб., 2002. – С. 13.