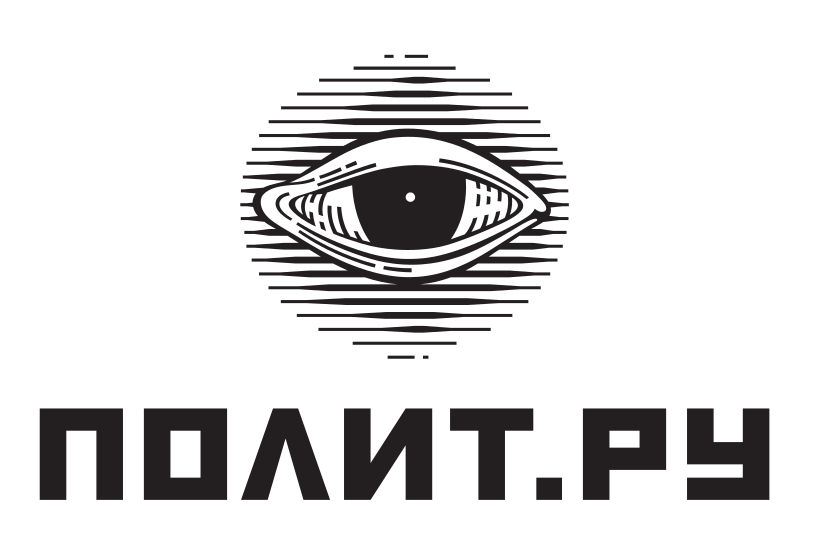= Термины
Необходимо сделать некоторые замечания по поводу терминов. Автор будет употреблять русский термин «современное искусство» в том же смысле, в каком в английском языке употребляется contemporary art и в немецком Aktuelle Kunst. Этим термином обозначается визуальное искусство последних десятилетий (не ранее 60-х годов, после поп-арта), осмысляющее текущую жизнь. Этот термин не предполагает деления на жанры, поскольку арсенал современного искусства включает как традиционные технологии, так и фото, видео, перформанс, медиальное искусство и т.п. Можно сказать, что для современного искусства любой способ создания образа и любой жанр есть в первую очередь инструментарий, при помощи которого реализуется художественное исследование.
В обиходе довольно часто путают современное искусство с модернизмом ? искусством пластических поисков, занявшим период от начала XX века до 60-х годов.
Довольно часто также употребляют словосочетание «современное искусство» в смысле «любое искусство, которое делается сейчас». Тут уместно вспомнить рассуждение австрийского архитектора Адольфа Лооса, одного из предшественников функциональной архитектуры. Он писал, что развитие культуры напоминает поход армии, большинство которой составляют отставшие солдаты. Вовремя приходит только авангард. Остальные растягиваются, отставая, ? одни живут идеями десятилетней давности, другие столетней...
Разумеется, один авангард армии не составляет, и именно «отстающие» обеспечивают преемственность. Но автору важно подчеркнуть, что пейзаж с березками, выполненный вчера, и даже полотно в духе абстрактного экспрессионизма, выполненное сегодня, произведениями современного искусства не являются (первое идейно соответствует середине XIX века, второе ? 50-м годам двадцатого). В тех случаях, когда речь пойдет обо всем поле художественных практик, автор будет употреблять термин изобразительное искусство. Проблемы институциализации традиционного искусства остаются в основном за рамками данного исследования.
=
Предыстория
=
Для понимания процессов, произошедших за последние 10v15 лет на сцене современного искусства, а также оценки их успешности или неуспешности, важно иметь представление об устройстве художественной среды в советское время. Современное искусство наследует андерграунду, а его история ? совокупность легенд, мифов и преданий, тем более стойких, что основными информантами являются заинтересованные участники тогдашних процессов. Тем не менее попробуем дать беглый очерк российской арт-сцены до реформ.
=
Агнцы и козлища
=
Особенностью художественной сцены в конце застоя было ее четкое деление на два лагеря: советский официоз и нонконформизм. Важно заметить, что деление происходило не только и даже не столько по эстетическому признаку, сколько по признаку лояльности. Решающим было, вписан ли человек в сложившуюся систему организации художественной жизни, исполняет ли он ритуалы советской службы.
Определенно, в конце брежневской эпохи формальные открытия модернизма уже не были ни секретными, ни запретными. Их изучали в профильных вузах, например, в ЛВХПУ им. В. Мухиной. В библиотеке ленинградской Академии художеств, славной своим ретроградством, любой желающий мог, тем не менее, свободно читать западные журналы по искусству. Существовала довольно широкая прослойка дизайнеров, художников-прикладников, театральных художников, книжных графиков, стесненных в своей работе не столько идеологическими рамками, сколько экономическим и технологическим убожеством.
Разумеется, художник, мыслящий себя работником идеологического фронта, не мог не иметь проблем с советской властью. Но нам важно сосредоточиться на проблемах профессиональных, а не диссидентских.
Право на профессию давалось официальным образованием и принадлежностью к профильному творческому союзу. Без бумаги об окончании художественного вуза и членства в СХ человек не мог легально арендовать мастерскую, покупать профессиональные материалы, не имел права продавать работы, участвовать в выставках, преподавать и т.п. Разумеется, человек, желавший делать официальную карьеру, должен был на официальные выставки приносить то, что требовалось.
Но оставалась возможность альтернативной карьеры. Неофициальная художественная среда в принципе ни в какие советские годы не была уничтожена полностью. В послевоенное время она возродилась, и можно говорить о зачатках, с конца 50-х годов, альтернативной инфраструктуры искусства.
Существовала практика кружков, групп, частных салонов, квартирных выставок и коллективных выездов на природу. Эта практика дала впечатляющие по художественному и социальному резонансу примеры. Белютинская группа (Москва ? Подмосковье, 60-е годы), Коллективные действия (Москва, 70-е), «стерлиговцы», «арефьевцы» (Ленинград, с конца 40-х до наших дней), Новые дикие, Новые художники, некрореалисты (Ленинград, 80-е). Перечислять можно долго. Но это были группировки по эстетическому и дружескому принципу, а не институции.
Движение по самоорганизации неофициальных художников было наиболее последовательным в Ленинграде. Объясняется это тем, что в столице гораздо легче было вступить в СХ, особенно в молодежную секцию. Выставочный зал секции графиков МОСХа на Малой Грузинской проводил «левую», по тогдашним меркам, выставочную политику. А в Ленинграде давление властей на интеллигенцию традиционно было очень жестким. При этом имелось довольно большое число авторов, нуждавшихся друг в друге и обладавших корпоративным интеллигентским самосознанием.
В середине 70-х после больших коллективных выставок в ДК им. Газа и в ДК «Невский» образовалось нечто вроде профсоюза художников-нонконформистов, объединявшего в свои лучшие времена до нескольких сотен человек. С разными изменениями он просуществовал до наших дней, называясь сначала ТЭВ (Товарищество экспериментальных выставок), с 1981 года ТЭИИ (Товарищество экспериментального изобразительного искусства), а с 1989-го ? Фонд «Свободная культура». Но как бы этот профсоюз ни назывался, он обнаружил способность к воспроизводству, рекрутированию новых членов, выдвижению новых поколений руководителей и на протяжении четверти века так или иначе помогал своим членам работать и выставляться.
По сути, это единственный пример реальной общественной организации в современном искусстве, пережившей период реформ, поэтому представляется интересным проследить ее эволюцию (см. ниже).
=
Продажи символические и практические
=
В поздние советские годы изобразительное искусство притягивало к себе внимание публики больше, чем когда бы то ни было. Наряду, пожалуй, с рок-музыкой оно казалось носителем истины. Возможно, потому, что слово было безнадежно скомпрометировано советской пропагандой. По воспоминаниям Льва Рубинштейна: «Книга в те годы воспринималась нами как нечто абсолютно тоталитарное. Ее не читают, ею бьют по голове. Тогда все важное происходило в мастерских. Поэты ходили к художникам, а не наоборот. Эти хождения по мастерским, пьянящие совершенно- Ощущение было такое, будто Буратино проткнул носом дырку в занавесе и обнаружился выход в какое-то другое пространство из тогдашней плоской, тусклой жизни».
Словом, акции неофициального искусства на рынке символических ценностей стояли высоко ? достаточно вспомнить легендарные многочасовые очереди, которые питерская публика выстаивала на морозе за кордонами оцепления, чтобы попасть на нонконформистские выставки в 70v80-х. При этом нет сомнений, что товаром, «продаваемым» на этом символическом рынке, было не столько искусство, сколько позиция независимого инакомыслящего автора ? свободного человека в несвободной стране, как правило оплатившего свою свободу потерей социального статуса. В 60v70-е андерграундные художники были, в большинстве, мелкими советскими служащими, не афишировавшими свою «вторую жизнь». С начала 80-х это было «поколение дворников и сторожей», а также фарцовщиков, лабухов, халтурщиков (оформителей, делавших разовые работы) и т.п., демонстративно «выбравших свободу».
Рынок в буквальном смысле в советское время был микроскопическим, но он все же существовал. Как «внешний», так и «внутренний». В первом, довольно курьезном, случае роль галеристов, критиков и покупателей в одном лице обычно играл персонал западных посольств и консульств.
Во втором ? был институт частного коллекционирования, который, наряду со многими другими хобби, заполнял идейный и бытовой вакуум, остро переживавшийся советской интеллигенцией. Коллекционирование, как и само занятие искусством, становилось героической практикой, поглощавшей жизнь. Советские коллекционеры-профессионалы считались членами нонконформистского сообщества, и картины, как правило, не покупали, а получали в подарок, выменивали и т.п. Но для людей, в сообщество не входивших, цена картины в 70v80-е годы колебалась от 50 до 200 рублей, т.е. от недельного до месячного заработка рядового инженера. Что, в относительном исчислении, примерно соответствует западным стандартам.
=
Арт-сцена после советов. Деградация или модернизация?
=
Эволюция государственных учреждений, в чьи задачи входит заниматься современным искусством (музеи, РОСИЗО, ГЦСИ), остается за рамками данной работы. Нам кажется важнее рассмотреть структуры, чье существование не гарантировано государственным бюджетом. (Хотя заметим, что именно государственная гарантия существования организации является лучшей базой для фандрайзинга, и наиболее эффективны в смысле привлечения спонсорских средств большие музеи, такие как Эрмитаж, Русский и пр.) Нас будут интересовать, во-первых, общественные организации, как унаследованные от советской эпохи, так и новые. Во-вторых, новые коммерческие институции, главным образом галереи.
=
Бывший официоз
=
Старые Союзы художников давно перестали быть агентами идеологии. Как профсоюзы они в какой-то степени еще действуют.
Сегодня возможность оформить аренду помещения под мастерскую через Союз является главным и чуть ли не единственным резоном быть его членом. Аренда мастерской оплачивается по очень льготным тарифам, не как производственное помещение, а как жилье, что в некоторых случаях дает выгоду в сто (!) раз. В последние годы городские власти пытаются минимизировать эти льготы, что встречает сопротивление художников, мобилизующих в свою поддержку прессу, политиков и т.п.
Союзы художников очень многочисленны еще с советского времени (в Москве более 10000 членов, в Питере около 3000). Это является причиной преобладающего там эстетического консерватизма. Молодежь, вступая в Союз, имеет в виду, помимо мастерской, полезное для карьеры понятие fellowship, приличную бесплатную поликлинику и т.п.
По отзывам ветеранов СХ, при советской власти «в материальном смысле жизнь была гораздо лучше». Существовал институт распределения заказов от предприятий через Союз, который сегодня практически исчез. Любопытно отметить, что до сих пор во многих случаях при определении стоимости частных заказов ориентируются на расценки СХ (как правило, устаревшие на 5v8 лет). При освоении бюджетных средств это считается правилом (как его обходят ? другой вопрос).
Кроме того, Союзам принадлежат выставочные залы, производственные площади, творческие дачи и т.п. Будучи формально общественными, на практике они обогащают тех, кто этими ресурсами распоряжается. Считать ли эту стихийную приватизацию рыночной или антирыночной ? вопрос дискуссионный. Сам по себе клановый, патерналистский характер распределения средств в искусстве ? дело почти неизбежное, и не только в России. Вопрос в том, что за клан. В оценках можно ориентироваться только на результат, т.е. на качество производимого художественного продукта. У наследников советских СХ результат удручающий.
=
Бывший андеграунд
=
РОО «Свободная культура» в Петербурге, в обиходе больше известная как культурный центр «Пушкинская-10», наследует полуофициальному профсоюзу художников-нонконформистов, существовавшему в Ленинграде с середины 70-х (см. выше). Она возникла в результате захвата художниками дома с таким адресом в 1989-м году.
Захват произошел по обычному сценарию образования сквотов (коммун художников). Прототипы сквотов известны еще с рубежа XIXvXX веков, а широко распространенным явлением они стали в Европе и Америке во времена движения хиппи, когда богемная молодежь заселяла пустующие дома, брошенные фабрики, склады и т.п. Однако специфика времени и места (Ленинград рубежа 80v90-х) определила ряд беспрецедентных особенностей.
Необычным был, во-первых, масштаб явления. В начале 90-х на Пушкинской обреталось несколько сот человек творческого люда: было более ста мастерских, несколько некоммерческих галерей, пара театров и перформанс-групп, ряд издательств, студии звукозаписи, студии рок-музыкантов, благотворительный фонд для бездомных и т.п.
Во-вторых, нетипичным для сквота было расположение в самом центре города. Западные сквоты обычно ютятся на окраинах, в устаревших промышленных районах, где цена недвижимости невысока. И чем она ниже, тем больше у коммуны шансов на выживание.
В-третьих, нетипичной была успешность предприятия. Надо заметить, что в Москве все подобные опыты (в Трехпрудном переулке, на Петровском бульваре, на Фурманном) потерпели неудачу: сквоты существовали несколько лет и гибли, не выдержав конкурентной борьбы за недвижимость. Разница в том, что в Питере недвижимость захватила не компания друзей, а сложившаяся в подполье организация художников, по сути, бродячее учреждение.
Его лидеры Сергей Ковальский, Евгений Орлов и Николай Медведев смогли отстоять недвижимость от посягательств милицейского кооператива «Охрана», телекомпании «5-й канал», мэра Собчака и разнообразного криминального элемента, использовав практически единственный ресурс, который у них имелся: поддержку общественного мнения и большей части прессы.
Другим, материальным ресурсом было само здание, но оно катастрофически разрушалось: к середине 90-х годов в «Свободной культуре» не было воды, освещения, отопления и т.п. Героическая сага о многолетнем бедствии была использована для PR (особенно действенным оказался авторитет и популярность поддержавших «Пушку» рок-звезд), и в конце концов арт-сообщество заключило договор с городом ? капремонт в обмен на потерю 3/4 площади. В таком урезанном виде, сохранив небольшую часть институций, оно существует с 1998 года до сего дня.
С одной стороны, можно констатировать безусловный административный успех. С другой ? перманентные экономические трудности. Базовый ресурс ограничен занимаемыми площадями, и постоянных источников финансирования не имеется.
На примере Пушкинской-10 видно, как отсутствие прописанной в законодательстве системы поддержки искусства компенсируется ситуативными договоренностями с властями. Эти «штучные» решения являются весьма слабой и ненадежной базой, ? во-первых, потому, что могут быть отменены так же, как были приняты. Во-вторых, в обмен на «благодеяния» городская власть определенно ждет благодарности. Согласие на такой тип отношений в принципе губительно для искусства. Это заставляет художников продолжать практику «нонконформизма» ? глубоко устаревшую, но более приемлемую, чем политический сервилизм.
Отчасти этим объясняется ослабление интереса СМИ к «Свободной культуре». Пафос противостояния власти и героического бедствия исчерпался. А пафос преуспеяния глубоко чужд людям, сложившимся в советском андерграунде.
Финансовый дефицит тем более неприятен, что сегодня арт-сцена переживает бум новых, весьма дорогостоящих технологий (см. ниже). Новые технологии связаны к тому же с новым поколением художников. А типичный профиль «подпольщика» мужчина пенсионного возраста, пьющий, со слабым здоровьем, средним образованием, низким достатком, православного исповедания. Механизм ротации и обновления кадров, формально прописанный в структуре «Свободной культуры», не работает. Есть все признаки ее превращения из крупного культурного центра в замкнутое сообщество ветеранов. Поэтому для профессионалов современного искусства «Пушкинская-10» также становится все менее привлекательной.
Видимо, не будет ошибкой считать «Свободную культуру» явлением «догоняющего развития». Это шлейф западного «хипповского» бума 60-х годов, жизнеустроительный проект, который удалось осуществить с опозданием на 30 лет, своего рода антисоветский социальный долгострой. Эту версию подтверждает стойкое присутствие там таких персонажей, как Коля Васин, 60-летний профессиональный битломан, инициатор утопического проекта построения Храма Джона Леннона (который находит, тем не менее, многочисленных юных поклонников).
Если обратиться к западному опыту, можно отметить несколько вариантов развития шестидесятнических коммун. Первый: фигуранты, выйдя из бунтарского возраста, становятся нормальными профи, теряют интерес к богеме и выходят из коммуны. Второй: фигуранты становятся профи, не теряя интереса к богеме. В этом случае они превращают коммуну в преуспевающую институцию современного искусства ? с профессиональной бюрократией, системой фандрайзинга, юридически внятными отношениями с государством, механизмом ротации персонала и т.д. Третий: коммуна превращается в отстойник для упавших с парохода современности чудаков.
На Пушкинской-10 можно наблюдать примерно в равных пропорциях приметы и того, и другого, и третьего. Так что пока преждевременно судить, является ли этот феномен тупиком разложения советской системы или же триумфом ее либеральной трансформации.
=
Агенты влияния
=
Распространено мнение, что почти все современное искусство в России делается на западные деньги. Отсюда напрашивается вывод, что оно является агитатором и пропагандистом западной, в первую очередь американской, идеологии.
Особенно убедительной эта идея казалась в начале 90-х. Начиная с конца 80-х в Восточной Европе, от Будапешта до Алма-Аты, открывались Центры современного искусства Джорджа Сороса (далее ЦСИ). Они распределяли сравнительно небольшие деньги (бюджеты питерского и московского ЦСИ колебались около 150 и 300 тыс. долларов в год соответственно). Но на фоне руин советской культурной системы это впечатляло. При тогдашней почти поголовной бедности художников не следует недооценивать возможность получить на проект 1,5v2 тыс. долларов (и жить на них, хотя это и не афишировалось).
Гранты распределялись на конкурсной основе. Разумеется, результаты конкурсов оставляли гораздо больше недовольных, чем довольных, и порождали бесконечные разговоры о вкусовщине, предвзятости, «дружеском» принципе при распределении средств и даже «мафиозности» экспертных советов ЦСИ. Вероятно, упреки справедливы, поскольку вообще не существует безупречных способов «этому дать, а этому не дать».
Как известно, благотворительная политика Джорджа Сороса базируется на убеждении, что жизнеспособное предприятие после нескольких лет поддержки должно само встать на ноги. К концу 90-х годов было совершенно очевидно, что ЦСИ жизнеспособными не являются. Деньги были потрачены, не произведя очевидных структурных изменений на арт-сцене. Спорный вопрос, что было тому виной ? отсутствие в постсоветском обществе механизмов, к которым можно было бы прибегнуть для поддержки искусства, или же неадекватность самих ЦСИ.
Однако они выполнили несколько важных на тот момент задач. Во-первых, помогли удержать в профессии некоторую, пусть небольшую, обойму художников. Во-вторых, сыграли определенную воспитательную роль, приучая арт-сообщество к нормальной западной практике писания проектов, подачи applications, составления отчетности и т.п. ЦСИ были ориентированы именно на актуальное искусство, и они безусловно помогли его идентификации, раздавая отвергнутым суровые определения искусства «немодного», «устарелого», «провинциального», «неактуального».
Забавно, что в тот момент традиционные художники (особенно модернисты) почувствовали себя отвергнутыми и гонимыми и даже придумали для счастливых потенциальных грантополучателей презрительное словцо «мейнстримщики» (от main stream).
Объявив о закрытии ЦСИ, Джоржд Сорос согласился еще 3 года оказывать современному искусству поддержку с убывающим объемом финансирования при условии предоставления убедительного бизнес-плана. Руководитель петербургского ЦСИ Елена Коловская при помощи тогдашнего экспертного совета сумела составить такой план и добиться поддержки Сороса на 1999v2002 для новой институции фонда PRO ARTE. Вместе с Соросом PRO ARTE поддержал и Фонд Форда. Сегодня годовой бюджет PRO ARTE около 300v350 тыс. долларов.
Концепция PRO ARTE была разработана специалистами изобразительного искусства, и сначала предполагалось фокусировать его деятельность на искусствоведческих, образовательных и, в меньшей степени, выставочных программах (можно отметить успешный проект «Современное искусство в традиционном музее»). Но, по убеждению Елены Коловской, вынесенному из опыта работы в ЦСИ: «Если заниматься только изо ? нам кранты». Хотя под «изо» в данном случае следует понимать предельно широкий спектр практик, включая видео, перформанс, дигитальное и сетевое искусство и т.п.
Сегодня PRO ARTE занимается также музыкальными программами и театральными проектами. В целом это вполне соответствует сдвигу мировой художественной моды от «предмета» к «шоу» и от традиционных практик к новейшим технологиям.
Для поддержки новейших технологий была создана мультимедийная лаборатория, где прошедшие конкурс молодые художники получают доступ к дорогой технике и могут осуществлять свои проекты.
Другое направление деятельности PRO ARTE ? образование в сфере культуры, для заполнения лакун и дефицитов в этой области свежеиспеченными специалистами.
Поддерживается образовательная программа по менеджменту культуры в Европейском Университете (с выдачей государственных дипломов). С осени 2002 года должна стартовать образовательная программа по культурной журналистике.
В принципе, PRO ARTE в своей деятельности следует всем стандартам западной культурной институции. Отличает его от них, пожалуй, подчеркнутый пафос бюрократической эффективности, деловой и финансовой дисциплины, модернизации, вестернизации, глобализации, цивилизации ? словом, нормальный административный восторг российского реформаторства.
Надо заметить, что пока русских денег в бюджете PRO ARTE нет.
=
=
Рынок, беспощадный и почти бессмысленный
=
Азиатский базар
=
Во второй половине 80-х годов в России начали возникать коммерческие художественные галереи, ориентированные в первую очередь на продажу картин на Запад. Эти институции были порождением кооперативного движения и отличались всеми его особенностями ? авантюрным характером, эфемерностью, неясностью правил игры, отсутствием каких бы то ни было гарантий. Зачастую они создавались даже не профессионалами арт-сцены, а просто людьми, имевшими в тот момент выход на Запад (скажем, через систему Интуриста).
Галереи первой волны («Марс», «Московская палитра» и многие другие в Москве, «Ариадна» и «Анна» в Петербурге) интересовались прежде всего или даже исключительно коммерческими возможностями произведений. Этот коммерческий цинизм, крайне плохой сам по себе, имел и положительный шоково-терапевтический эффект: он разрушал традиционную корпоративную систему ценностей, основанную на противостоянии: конформист ? нонконформист.
Надо отметить, что идея «священной вражды», порожденная советской системой отношений, после ее крушения оказалась вредной, поскольку сама, в свою очередь, эту систему воспроизводила. Ветераны андерграунда не торопились расставаться с советским наследием, так как оно приносило дивиденды: биография «подпольщика» и вообще любые неприятности, пережитые художником в годы советской власти, существенно повышали интерес к работам и их цену. Репутация диссидентов и страдальцев, не имеющая, вообще-то, отношения к качеству произведений, стала основой короткой, но бурной рекламной кампании советского искусства конца 80-х годов.
Словом, первые перестроечные галереи не были галереями в профессиональном понимании этого слова. Задача галереи ? выставочная политика, создание репутации авторов и кураторов, утверждение моды, а через все это ? цены произведения. Советские галереи образца 80-х были посредническими фирмами, перевалочными пунктами, в основном работавшими даже не с западными галереями, а с оптовыми закупщиками, зачастую эмигрантами, вывозившими много разного в надежде продать что-то. Они делали деньги на волне Горби-бума, мировой моды на все советское-антисоветское. Единственный положительный момент этого бума на внутреннем рынке ? внедрение идеи, что современное искусство в принципе ценно. Т.е. имеет цену.
Горби-бум счастливым образом совпал с небывалым взлетом арт-рынка на Западе, особенно в Америке (точнее, с его излетом). 80-е годы были отмечены доверием к вложению денег в искусство вообще (в целом не оправдавшимся), модой на приобретение картин в широких кругах среднего класса и, как следствие ? довольно высоким уровнем цен на искусство, особенно живопись. Это было первое благоприятное обстоятельство, позволившее на короткое время процвести арт-рынку в России.
Вторым была разница обменного курса и уровня цен на Западе и в России, позволявшая получать порой шальные деньги. Если инженерский месячный заработок составлял в конце 80-х годов $ 40v50 по курсу черного рынка, то средняя цена, по которой покупал картину оптовик-посредник, была порядка $ 100. Что позволяло художникам чувствовать себя очень комфортно в России, но являлось вопиющим демпингом для западного рынка.
Помимо субъективных причин таких перекосов, были и вполне объективные. У русского искусства не было обоснованной цены, потому что ее просто не могло быть. Цена на искусство находится в некотором соответствии с уровнем жизни населения. Если, в случае удачи, художник продавал что-то по западной цене, в России это составляло целый капитал. Напомню, что за $ 1500v2000 в конце 80-х можно было приобрести квартиру в столице (в приличной западной галерее это «лейтенантская» цена для картины средних размеров, сделанной художником без имени).
Характерно, что больше всего страдали в такой ситуации западные профессионалы, как галеристы, так и коллекционеры, привыкшие к тамошним ценам. Все это не могло не иметь негативных последствий, и уже в начале 90-х у «дикого» русского арт-рынка была крайне плохая репутация на Западе.
Вообще, говоря о ценах на произведения искусства, надо учитывать главную особенность арт-рынка: это рынок символический. Ценообразование слабо зависит от таких экономических факторов, как себестоимость, полезность и пр. «Продаются» имена создателей, продавцов, а также, кстати, и покупателей (поскольку покупается престиж). Цена произведения нарабатывается выставками, публикациями, каталогами, исследованиями, она создается усилиями критиков, кураторов, галеристов, трудом и деньгами, вложенными в художника многими людьми в течение многих лет.
Русская арт-сцена перестроечных лет не могла предложить имен ? она могла предложить только произведения. Следовательно, для западных галерей она могла быть в лучшем случае рынком сырья, из которого еще предстояло бы сделать товар. Но к рубежу 90-х годов они в этом сырье уже не нуждались: мода на все русское прошла.
=
Попытки профессионализма.
=
На рубеже 80-90-х появились первые галереи современного искусства. Они были созданы активистами нового поколения двадцатипяти-тридцатилетних, представителями столичной «золотой молодежи», как правило, детьми влиятельных деятелей искусств. «Первая галерея» основана в Москве Айдан Салаховой, Александром Якутом и Евгением Миттой в 1989-м, вслед за ней в 1990-м появилась галерея Марата Гельмана. В принципе это нормально и на Западе: менеджмент современного искусства ? дело, требующее высокого старта. В Петербурге, а тем более в регионах, не нашлось тогда людей, занимавших позицию, достаточно высокую, чтобы стартовать в этом бизнесе.
Задачей первых профессиональных институций современного искусства было, во-первых, отделить себя от массы непрофессионалов, торговавших чем придется, во-вторых, от многочисленных традиционалистов, модернистов, нонконформистов и пр. Следовало объяснить обществу, что современное искусство ? вовсе не то, что оно привыкло таковым считать. Отсюда снобизм этих деятелей, с одной стороны, и вакуум, в котором они оказались, с другой.
Необходимость заполнить этот вакуум обнаружилась очень быстро. Уже в начале 90-х годов, когда русское искусство стремительно теряло свои позиции на международной арт-сцене, стало ясно, что невозможно жить, только «повернувшись лицом на Запад». Мировой арт-рынок устроен таким образом, что имя художника (галереи) делается дома. После чего художник (галерея) может выступать как представитель страны.
Считается, что современное искусство для общества ? способ понимать себя. И рассказать о себе другим. Русское искусство могло быть интересно западному потребителю постольку, поскольку служило носителем знания/мессиджа о России.
Следовательно, для карьер в искусстве необходима была состоявшаяся культурная конвенция ? значимая для самого российского общества система идей, ценностей, репутаций, эстетических предпочтений и т.п. Что означает формирование не только арт-сообщества, но и потребительской среды. Необходимо также усвоение потенциальным потребителем идеи, что искусство маркирует социальные амбиции, создает престиж, помогает коммуникации и т.п. Наконец, нужна просто привычка к коллекционированию, утраченная в советские годы.
В России возникла парадоксальная ситуация: галеристы должны были сперва предпринять энтузиастические и часто затратные усилия по созданию арт-рынка, и только в случае успешного решения этой задачи они могли рассчитывать на продажи. Сперва воспитать потенциального покупателя и только потом с ним работать.
В этой ситуации фигура галериста, критика, менеджера оказалась гораздо важнее, чем фигура самого художника. Лозунг момента был не «художник делает искусство», а «галерист делает художника».
Можно сказать, что это противоречит самой природе искусства и предвещает его конец. Можно констатировать размывание функций: сегодня куратор генерирует художественные идеи, художник львиную долю сил тратит на менеджмент, а сами произведения часто выполняются наемными безымянными ассистентами.
А можно заметить, что все это соответствует постиндустриальной ситуации в целом (производитель значит гораздо меньше, чем посредник и продавец, и получает гораздо меньшую долю).
Как бы то ни было, сегодня Марат Гельман или Айдан Салахова гораздо известнее, чем представляемые ими художники.
=
Новое русское искусство
=
Надо заметить, что потенциальный покупатель в начале 90-х имелся. Это время появления «новых русских» ? людей, с одной стороны, обладавших большими деньгами, к которым многие из них, по понятным причинам, относились легко. С другой стороны, несовершенство экономического законодательства затрудняло их активность на обычном рынке, что подталкивало к мысли обращать деньги на рынке символическом. Большие деньги начала 90-х годов можно описать как социальную и культурную новацию с сильным привкусом авантюры. Это действительно было время многочисленных политических, коммерческих, медиальных авантюр. Характерный профиль героя того времени ? тридцати-сорокалетний банкир или крупный предприниматель из бывших комсомольских работников. Современное искусство казалось этим людям вполне пригодным инструментом для оформления их нового статуса.
Новорусским пафосом были проникнута и стартовавшая в 1990-м году первая в России арт-ярмарка. Ее название звучало честно, но довольно рискованно ? ART MIF (Moscow International Art Fair).
То время отмечено попытками создания крупных корпоративных коллекций. В качестве покупателей выступили Инкомбанк, банк «Империал», банк «Московия» и ряд других коммерческих структур.
Создание коллекций, безусловно, требует института экспертизы, поскольку цель в подобном случае, ? не только вложения в имидж компании, но также инвестиции в предметы, которые должны в долгосрочной перспективе вырасти в цене. На короткое время главным героем арт-сцены стал эксперт.
Российскую экспертизу в области современного искусства также вполне можно расценить как авантюру, и многие впоследствии так ее и расценивали. Тут действительно был ряд пикантных моментов.
Во-первых, закупки искусства происходили на фоне «гайдаровского кризиса», когда доходы «нормальных» людей упали до $ 10v15 в месяц. А эксперты настаивали на том, что российские цены должны быть если не равны западным, то стремиться к ним. Что психологически понятно, поскольку российская элита предпочитает сравнивать себя не с рядовыми соотечественниками, а с людьми того же статуса на Западе.
Во-вторых, из-за крайней узости тогдашней отечественной арт-сцены одни и те же люди (или люди одного, очень тесного круга) оказывались одновременно в ролях галеристов, кураторов и экспертов, а иногда и художников. То есть продавали свои же работы по своему же совету. Гарантируя рост их стоимости тем, что сами же будут над этим работать.
На Западе такая ситуация невозможна или, по крайней мере, тщательно маскируется. Но в начале 90-х годов в России в ответ на упреки можно было по-сталински твердо сказать: других профессионалов у меня для вас нет.
В-третьих, в России крайне плохая законодательная база для создания корпоративных коллекций. Приобретенные произведения считаются основными фондами и облагаются налогом. Для того чтобы избежать этого, прибегали к такой схеме: покупатель давал продавцу как бы кредит и брал произведения как бы в залог. Кредит не возвращался, залог удерживался. Но эти манипуляции сильно снижали пафос престижного потребления ? главный в создании коллекций.
Последний пикантный момент в том, что ожидания выгод от корпоративных вложений в искусство не оправдались не потому, что погиб арт-рынок (как на Западе), а потому, что погибли почти все тогдашние российские корпорации. Банкротство и распродажа коллекций Инкомбанка ? самый свежий тому пример.
Справедливости ради надо заметить, что большинство имен, названных тогда российскими экспертами покупателям, оказались правильными ? в том смысле, что рекомендованные авторы остались на сцене, за минувшее десятилетие успешно делали карьеру, попали в музеи и т.п.
Другой вопрос, насколько их успехи могут быть сегодня конвертированы в деньги. Принципиальных препятствий к тому не видно. Но коллекция требует заботы и вложений ? осмысленной и постоянной работы профессионалов, рекламы, выставок и пр. Иначе получаются конфузы: при распродаже коллекции Инкомбанка аукционным домом Гелос большая часть произведений современных художников, в том числе весьма именитых, пошла как «товарная масса» (стартовая цена на работу Тимура Новикова составляла $ 15).
=
Активисты и энтузиасты
=
Начиная с середины 90-х годов на сцене современного искусства наблюдалась определенная стабильность. Случайные люди из этого бизнеса ушли, остались только те, кто готов был работать в нем при любых обстоятельствах. Сегодня серьезных галерей актуального искусства в России очень немного, и в основном они в столицах. В Москве ? галерея Гельмана, галерея «X«», «Айдан-галерея», «TV-галерея», «Риджина». По российской мерке все эти заведения «старые», они пережили ряд реорганизаций, смену адресов и т.п.
Эти галереи держат близкий к западному уровень цен (что соответствует московской ситуации). Но не секрет, что на самом деле они зарабатывают либо продажей антиквариата, либо участием в политических кампаниях, либо живут постоянной поддержкой западных фондов.
При этом список галерей современного искусства гораздо шире, чем приведенный выше, и весьма большую долю в нем занимают некоммерческие галереи.
Скажем, в Петербурге еще в начале 90-х стартовала «Галерея 21», до сих пор продержался «Борей», «Митьки-ВХУТЕМАС», ФотоImage, Navicula Artis и др. Все это места милые и охотно богемой посещаемые. Все они имеют лица общее выражение ? гостеприимства и честной бедности. На самом деле это клубы, а не галереи. Сюда ходят не купить, не продать, не выяснить конъюнктуру, а увидеть знакомых, узнать новости и выпить. Продажи случаются не как правило, а как приятное исключение. Обычно условие существования таких галерей ? бесплатное или очень льготное помещение плюс энтузиазм хозяев и круга «своих» экспонентов.
За последнюю пару лет региональная ситуация изменилась. В Петербурге появились несколько «богатых» галерей ? реорганизованная галерея Д-137, галерея Марины Гисич и галерея при журнале «Новый мир искусств» ? все руководимые энергичными и амбициозными дамами. На Западе это довольно типично: галереи держат жены/подруги/дочери преуспевших людей, поскольку условием продаж являются связи достаточно высокого уровня. Заметим, что на нашей арт-сцене (даже более, чем на российском рынке вообще) личные связи, кружковые и корпоративные интересы ? едва ли не самый важный привод общественной машины. И арт-бизнес держится, в первую очередь, торговлей связями. При этом считается нормальным, если бюджет галереи просто «выходит в ноль», что тоже могут себе позволить только богатые. В этом случае галерея ? инструмент превращения просто состоятельного человека в публичную фигуру.
Галереи этого типа решительно предъявляют т.н. «евростандарт» ? проще говоря, предъявляются деньги. Начала эту практику еще в первой половине 90-х годов московская «Риджина», поражавшая воображение публики выходившими на Мясницкую окнами во всю стену, двухярусным залом, дерзкими, помпезными и явно очень дорогими инсталляциями.
Искусство в галерее Марины Гисич обретается среди мраморных унитазов, стеклянных стен и прочих дизайнерских наворотов. Помимо «понтов», это имеет и некоторое коммерческое обоснование: бум недвижимости в крупных городах породил новый интерес к интерьеру, что может привлечь новый слой покупателей. До этого вложениям в интерьер мешала высокая мобильность элиты (частая смена жилья, переезды из города в город) и неуверенность в завтрашнем дне. Пожалуй, сегодня впервые за много лет у покупателей появилось желание не только символического престижного потребления, но и просто украшения быта.
В последнее время галереи появляются и в провинции (особенно в районах нефтедобычи, при крупных комбинатах и т.п.). Главным условием их существования является меценатство местных магнатов.
Возможно (и даже весьма вероятно), что эти новые галереи тоже окажутся не магазинами, а клубами. Но уже не для художников, а для респектабельных потребителей искусства.
Есть еще один весьма важный тип активности на арт-сцене ? некоммерческие (во всяком случае, официально) инициативы отдельных лиц, занятых арт-менеджментом.
Популярность free-lance кураторства объясняется обычно не столько любовью к свободе и нежеланием «лечь под кого-то», сколько недостатком финансовых ресурсов, не позволяющим нести бремя рутинных обязательств (аренда помещения, зарплата персонала, оплата регулярных административных расходов, «крыши» и пр.). Ситуация на сцене такова, что вполне возможно найти деньги (в объеме от нескольких тысяч до многих десятков тысяч долларов) на проект и очень трудно ? постоянный источник финансирования.
Такая инициатива, как бы она ни называлась и как бы ни была прописана юридически, всегда дело авторское, связанное с амбициями, вкусом и идеями определенного человека. Вообще, важно заметить, что арт-сцена состоит из персонажей, а не из институций, и в этом ее основной либеральный смысл. Институция в случае «активистов» ? проект частного лица, позволяющий ему легализоваться в социальном пространстве. Проекты открываются и закрываются, люди остаются.
Парадокс в том, что, будучи чистой воды частным предпринимательством, такая активность носит нерыночный характер. Поскольку в российских условиях сравнительно легко «выпросить» деньги у грантораспределяющих организаций, муниципальных и государственных структур и даже частных спонсоров в обмен на какие-то символические дивиденды, но крайне трудно быть фигурантом (особенно легальным) рынка.
=
Где деньги лежат
=
Тем не менее есть доказательства того, что искусство может быть вполне реальным бизнесом даже в России.
В 1997 году Марат Гельман утверждал, что годовой доход его галереи (продажи и привлеченные спонсорские средства) превысил $ 1 млн ? больше бюджета на культуру всей его родной Молдавии. К этому времени за его плечами было почти 10 лет дилерской деятельности, во все периоды которой он был так или иначе успешен. В конце 80-х ? начале 90-х он «раскрутил» и на хорошем европейском уровне продавал живопись украинского трансавангарда. В начале 90-х был одним из немногих галеристов, кто сумел удержать интерес западных профессионалов, в первую очередь музеев, к новейшему русскому искусству. В середине 90-х сумел использовать и мотивировать активность нового социального искусства (см. ниже). Именно благодаря этому галерея вышла из профессионального пространства в публичное, а ее хозяин приобрел довольно скандальную известность.
Начиная с середины 90-х Гельман сумел использовать эту популярность и принесенные ею связи для получения заказов на участие в политических кампаниях. Деятельность в области политического PR создала контакты в верхних эшелонах российской элиты, что, в свою очередь, обеспечивало продажи.
На всем протяжении карьеры Гельмана как галериста его know-how была ставка на коммуникационные возможности искусства. По его словам: «Современное искусство ? очень удобный инструмент структуризации общества. Оно представляет собой фильтр для вычленения новых элит ? потому, что требует понимания, и потому, что требует денег. В любом американском городе круг попечителей музея современного искусства ? это и есть городская элита. Если ты куда-то приезжаешь в Америке и хочешь понять, с кем тут можно иметь дела, ты идешь в музей и смотришь список членов board of trusty местного музея.
Галерея ? то место, где могут встретиться в качестве клиентов люди, которые ни в какой другой обстановке встретиться не могут, потому что они принадлежат к разным кругам. Вот пример: new-comer, который нуждался в контакте с городскими властями (в Сургуте), осуществил это с помощью нашей галереи: он купил 6 картин и подарил их городскому музею. Это был серьезный вклад. И музей в торжественной обстановке представил его мэру как мецената».
Успех галериста означает, что во всех ситуациях ему удавалось выбрать самую продуктивную тактику и сделать самую верную ставку. Тем более интересно выслушать прогноз Марата Гельмана о перспективах современного искусства на ближайшие годы:
«Рынок как механизм финансирования искусства себя изживает. Он существует по инерции ? примерно так же, как рынок брильянтов. Рынок занимает все меньшую долю в общем количестве денег, которые оборачиваются в искусстве.
Принципиальной является политика государства. Вспомним, что взлет американского, итальянского, немецкого искусства в послевоенные годы был обеспечен реабилитационными мероприятиями этих стран. Конечно, рынок на эти вложения реагирует повышением цен. Но не рынок является мотором.
Потому что искусство ? бизнес амбиций. Он финансируется как предмет престижа владельца, престижа страны. Без искусства ведь можно обойтись. С точки зрения экономики, Россия должна была бы признать, что ? да, мы страна третьего мира. А это значит: у нас не будет современного искусства, как его нет, скажем, в Пакистане. Но с другой стороны, это бывшая империя, здесь есть амбиции, есть энергетика ? в том числе амбиции и энергетика художников, которых взращивали в советское время, чтобы оформлять победы.
Проблема постсоветской ситуации в том, что искусство, в отличие, скажем, от футбола, не осознается как предмет национальной гордости.
Деньги в стране есть. Сейчас тратятся огромные суммы на искусство. Вопрос ? как и на что. Есть, скажем, огромное число региональных музеев, которые не финансировать нельзя, но которые не включены в систему работы с современным искусством. Фактически финансируется запасник с существующим при нем научным коллективом. Если бы музеи получали деньги по проектному принципу, это резко изменило бы ситуацию.
Что касается частных денег и того, на что они тратятся, ? в конце 90-х мы проводили следующий эксперимент на базе московского ЦДХ: по договорам аренды на выставочные площади подсчитывали процент проектов современного искусства от общего числа выставок. Он не превышал 7%. Это в Москве! А что говорить о регионах-»
=
Чем живем-кормимся?
=
Бывает крайне трудно ответить на популярный вопрос: сколько стоит искусство? Правильный ответ ? столько, за сколько удалось его продать, ? по сути, ответом не является.
Для понимания ситуации на арт-рынке есть смысл разделить художников на несколько категорий:
люди, занимающиеся только искусством и им зарабатывающие;
люди, зарабатывающие чем-то еще;
художники с региональными репутациями;
художники, вышедшие на мировой уровень.
Художников, зарабатывающих только искусством, абсолютное меньшинство. Это нормально, и не только для России. По большей части они заняты в областях, смежных с искусством. Это может быть коммерческий дизайн, рекламный бизнес, арт-менеджмент, арт-консалтинг, журналистика. В таком случае человек при оценке своих художественных работ склонен ориентироваться на цену своего времени вообще.
Что касается художников, зарабатывающих только искусством, тут можно выделить два типа: романтический и профессиональный. В первом случае это маргинал, терпящий бедствие, или же человек, живущий за чей-то счет. Цены на произведения тут не имеют адекватного обоснования и являются фактом самооценки, психологическим, а не рыночным. Представляется, что такой тип художника ? явление, по сравнению с советским временем, исчезающее. Но о нем стоит говорить, потому что до сих пор в представлении публики художник именно безвестный гений вангоговского типа. И этот миф служит воспроизводству таких фигур.
Художник-профи находится в ценовых рамках своей галереи или галерей. Региональные цены настолько же ниже западных цен на аналогичные произведения, насколько цена жизни в России ниже цены жизни на Западе. Т.е. примерно на порядок. Рядовые продажи тянут обычно несколько сотен долларов за произведение небольшого (домашнего) формата, тысяча-другая может быть отдана за полотно представительского формата.
Предел региональных цен в России ? 7v8 тыс. (художник с именем, серьезная большая работа, продана в банк или крупную корпорацию известной галереей, которая получает не меньше половины этой суммы). Надо заметить, что последняя цена ? не совсем региональная. На такую сумму могут рассчитывать художники, уже имеющие подобные цены на Западе.
Крайне редким в России является переход за $ 10000 (например, на ярмарке ART MOSCOW-2000 Зураб Церетели купил для своего музея весьма большую инсталляцию Александра Бродского за $ 30 000).
Есть считанные единицы русских художников, чей уровень цен выходит за региональные пределы ? Олег Кулик, Валерий Кошляков, Арсен Савадов, Дмитрий Пригов, Евгений Семенов. Большая серьезная работа любого из этих авторов может стоить более $10000.
Вероятно, рекордом для продаж произведений современного искусства в нашей стране является продажа галереей Гельмана двух картин из проекта «Выбор русского народа» Виталия Комара и Александра Меламида, за которые покупатель заплатил $ 70000 (и тут же перепродал в западный музей). Надо, впрочем, заметить, что на Западе эти авторы считаются американскими художниками.
=
О чем это мы?
=
Отцы и братья
=
За полтора десятилетия реформ на арт-сцене сменились не только фигуранты, институции и правила игры, но и содержание искусства.
Ресурс поколения андерграунда был, в целом, вычерпан за годы перестройки. Вместе с ним потеряло актуальность «интеллигентское» искусство, ориентированное на «гуманизм», «нравственные ценности» и «красоту, которая спасет мир» (у более молодых критиков этот идейный комплекс получил название «духовка и нетленка»).
Отказ от гуманизма как принципа может показаться диким и циничным, но он имеет свои исторические резоны. Гуманизм XIX ? начала XX века был идеологией либеральной интеллигенции. Опыт ХХ века показал, что этот социальный слой оказалась неуспешным, потерпел историческое поражение. В принципе в рамках православной традиции возможно говорить о том, что поражение в духовном смысле продуктивней победы, что оно дает впечатляющие результаты в искусстве и т.п. Но, рассуждая таким образом, легко дойти до логики «это очень хорошо, что нам очень плохо» ? что отчасти и произошло.
Вместе с поколением андерграунда потеряли свое значение традиционные жанры, доминировавшие в советское время, в первую очередь картина (холст/масло, сюжет/послание). Мадам Картина, как удачно заметил Илья Кабаков.
Для начала 90-х, когда еще был расчет на продажи, характерно преобладание объекта и отчасти графики. Тогда на сцене доминировало поколение, профессионально сложившееся в 80-х годах. В Москве это были в основном «младоконцептуалисты», подхватившие от Ильи Кабакова и Андрея Монастырского эстафету отстраненного наблюдения, «исследования жизни». Ирония, парадоксальность, исчезновение изобразительности в пользу текста характерны для этого искусства.
Московское арт-сообщество начала 90-х вполне унаследовало герметизм позднего андерграунда, в нем сложился специфический внутренний язык, понятийный аппарат, замкнутая система репутаций. При остром интересе к социальным, политическим и историософским проблемам в целом эти художники не искали контакта с публикой, а строили карьерные стратегии, ориентируясь на свой круг и западных профессионалов.
В Петербурге ситуация была иной: доминировали «неоакадемисты», декларировавшие «возврат к классической традиции». Что являлось, безусловно, не новой идеологией, а выгодным в карьерном смысле постмодернистским карнавалом. Однако стратегия «питерских» предполагала завоевание популярности. Во-первых, среди молодежи, знавшей лидера «академиков» Тимура Новикова еще по героическим временам сотрудничества с группой «Кино», «Поп-механикой» и съемок фильма «Асса». Во-вторых, неоакадемисты надеялись прийтись по вкусу «новым русским», ориентированным на «царственное и божественное» искусство. А также, если повезет, войти в новый официоз (это не получилось).
Другой специфический аспект неоакадемического движения прославление тела в его красоте и славе, оно было преимущественно гейским или/и сознательно использовало тогдашнюю западную моду на гомосексуализм. Вообще его можно рассматривать как попытку внедрения в русскую художественную практику «культуры удовольствий», утраченной со времен Серебряного века. Но по сравнению с тогдашней рафинированной богемой, богема 90-х тяготела к попсе, шоу-бизнесу, жизни ночных клубов и т.п.
В целом, вероятно, следует приветствовать смену деятелей с интеллигентской психологией людьми с ментальностью фрилансеров и частных предпринимателей. Это довольно радикальное изменение ориентиров, и оно, естественно, породило конфликты если не «отцов и детей», то как минимум «старших и младших» братьев. В течение всего десятилетия 90-х для «новой волны» современного искусства было характерно отторжение старых интеллигентских ценностей. Более того, гуманистическая, а точнее, гуманистически-державная проблематика и способы ее художественной интерпретации считались признаком именно советского искусства (как левого, нонконформистского, так и правого, почвенного). Заметим, что именно ее монополизировал не принадлежащий к современному искусству, но крайне влиятельный официоз 90-х (Глазунов, Шилов, Церетели и др.).
Впрочем, в самое последнее время на арт-сцене наблюдается возрождение интереса к интеллигентским ценностям (советскому наследию были посвящены несколько номеров влиятельного "Художественного журнала"). Что можно объяснить, с одной стороны, достаточной временной дистанцией, позволяющей занять беспристрастную позицию исследователя. С другой стороны, интерес к советскому наследию спровоцирован "новым консерватизмом" путинского правления.
=
Мальчиши-плохиши
=
Ситуация резко изменилась в середине 90-х годов, когда новый для России феномен независимых СМИ был осознан художественным сообществом как важнейший инструмент продвижения.
По законом жанра искусство, чья главная цель ? привлечь журналистов, должно быть скандальным. В центре внимания столичных СМИ оказались галерея Гельмана и галерея «Риджина», избравшие стратегией социально осмысленный эпатаж. Героями дня стали художники-акционисты, в первую очередь Александр Бренер и Олег Кулик.
Акции Бренера середины 90-х ? двухнедельное голодание в галерее Гельмана, вызов Ельцина на боксерский поединок с Лобного места, испражнение перед картиной ВанГога в ГМИИ, попытка совокупления с женой у памятника Пушкину и др. ? достаточно известны. Не менее известны акции Кулика, который в «Риджине» зарезал поросенка, совокуплялся с овцами, в ходе проекта «Бешеный пес» бегал на четвереньках голый, кусался, испражнялся и лизал ботинки, в пасторском костюме нырял в аквариум, проповедуя рыбам и т.п.
Как бы ни относилась к этим деяниям публика (обыватели пугались, интеллектуалы забавлялись), в художественной среде они считаются героическими и в таком качестве уже вошли в историю новейшего российского искусства. А Бренер и Кулик почти до сего времени остаются самыми громкими русскими именами на Западе.
Заметим, что у Бренера и Кулика было много подражателей, пытавшихся использовать, казалось бы, нехитрый рецепт эпатажа, но успеха они не добились. Эпатаж впечатляет только тогда, когда в нем есть вкус некой «правды», попрание обессмыслившейся нормы, парадоксальное обнажение социального абсурда. Середина 90-х, несомненно, являлась временем болезненной демифологизации общества, демонтажа остатков старых идеологических конструкций, высшей (вернее, низшей) точкой общественного цинизма, разброда и потери ориентиров. Вспомним, что это было время максимального успеха Жириновского и ныне забытого думского клоуна Марычева, время восхождения Лебедя, вообще время максимальной театрализации политической жизни. В этом контексте амплуа уличного хулигана Бренера, восходящее к практике восточного юродства, к «ругательству суетному миру», выглядит вполне уместным. В той же мере, как и амплуа «русского животного» Кулика.
В Петербурге «Новая академия изящных искусств» играла в более опасные игры. В середине 90-х ее идеологи Тимур Новиков и Андрей Хлобыстин перешли от апологии «прекрасного» к атаке на «безобразное». То есть к проклятиям в адрес модернизма и постмодернизма, прославлению эстетики тоталитарных режимов и пропаганде их корифеев вроде Альберта Шпеера, Лени Рифеншталь, Александра Самохвалова, Александра Дейнеки и пр. Среди множества акций «НАИИ» самой характерной была выставка «Нагота и модернизм», повторяющая прием геббельсовской выставки «Дегенеративное искусство»: вырванные из контекста эксперименты модернистов с человеческим телом предстали парадом патологий и извращений, вопиющим нравственным уродством. Для сравнения предлагались олимпийские образцы тела в интерпретации советского и нацистского искусства.
=
Либералы или радикалы?
=
Легко заметить, что ни московские акционисты, ни питерские неоакадемисты не являлись носителями либеральных ценностей. Наоборот. Первых, с некоторой натяжкой, можно назвать леворадикальными авторами, вторых ? радикально-консервативными. Если придерживаться традиционного подхода и считать искусство носителем нравственных ценностей, прямой пропагандой той или иной морали, эта картина может испугать.
Однако парадокс в том, что со времен романтизма (т.е. последние 200 лет) подлинным, возвышенным, исторически перспективным считается искусство, ориентированное на критику общества, а не на его апологию. Соответственно, если общество либерально, то актуальное искусство должно критиковать либерализм. Так и происходит в современном западном искусстве ? оно весьма часто «левацкое», радикальное, играет с тоталитарными эстетиками, считает долгом раздражать болевые точки общества, интересуется перверсиями и отклонениями, проблемами власти, насилия, практикует провокации и манипуляции (отметим, что среди наших политтехнологов много людей из художественной среды).
Разумеется, такая «антиобщественная» практика может существовать только в либеральном обществе. На Западе есть традиция с уважением воспринимать радикальное искусство, рассматривая его как своего рода социальную терапию, поучительную антиутопию, зону сравнительно безопасного социального и эстетического эксперимента. Принципиально, что для выживания в России «антилиберальное» искусство нуждалось в либеральной инфраструктуре ? и ее, в целом, удалось создать. Несомненно также, что это искусство служило расширению понятия личной свободы, права на высказывание, доказывало иллюзорность запретов, подвергало сомнению возможность властей «остановить», «наказать».
Надо заметить, что на Западе художественный радикализм уравновешивается «правильным», политически корректным искусством. Но в России оно приживается трудно, как и сама идеология политкорректности. Можно даже сказать, что политкорректность вызывает отторжение, поскольку напоминает о советской пропаганде «дружбы народов», «равноправия женщины», «социальной защищенности» и пр. В России пока не сложилось, по крайней мере не вошло в обиход, искусство, представляющее разные субкультуры. Разумеется, можно привести примеры искусства, озабоченного гейскими, феминистскими, экологическими, этническими и пр. проблемами. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что мотивация этого искусства лежит за пределами российского общества ? оно делается на западные гранты и предназначено на экспорт. Это пока не идеологии, а только их корыстные симуляции.
=
Искусство в массы, или новое поколение выбирает Интернет
=
Современное искусство сегодня свободно от проблемы «массового продукта» ? к сожалению. Напротив, до последнего времени остро стояла проблема разрыва со зрителем, потери общего языка. Чрезвычайным и редким достижением считалось создание произведения, которое может быть успешно тиражировано (как, например, «Мусульманский проект» 1996 года группы АЕС). Возможно, причина разрыва в том, что арт-сообщество освоило западные ментальные модели уже к началу 90-х. А публика осваивает их примерно с 10-летним опозданием.
Однако этот разрыв сокращается, особенно быстро в последние годы, когда на сцену пришли авторы и публика «интернет-поколения». Помимо молодого, как правило, возраста, они имеют ряд важных отличий от своих предшественников.
Во-первых, эти люди свободны от прямого или косвенного сведения счетов с советским наследием.
Во-вторых, они склонны понимать искусство как развлечение, как интеллектуальную игру, как забавную альтернативу «нормальному» бизнесу ? но отнюдь не как святыню, служение, борьбу и т.п.
В-третьих, это поколение привыкло к довольно высоким стандартам ? если не житейским, то технологическим.
Вообще в последние годы рост уровня жизни и бум новых технологий привели к быстрому росту требований как авторов, так и публики к качеству художественного event-а. Сегодня проект любого жанра должен иметь каталог, сайт в Интернете, рекламу в СМИ, профессиональный дизайн выставочного пространства и пр. Стоимость шоу в области новых технологий, как правило, еще удорожается за счет оборудования, программирования и инженерно-технических работ.
То же можно сказать и о самих произведениях. Для примера: маленькие, примерно 20х30 см, «живые картинки» из серии «супремедизм» молодого медиа-художника Дани Васильева (автора известного сайта koala.ru) в производстве обошлись, по словам автора, около $ 500 каждая, поскольку эти работы сделаны из портативных компьютеров.
Изменился и тип шоу: оно все меньше состоит из «вещей» и все больше из «процессов» ? перформансов, видопроекций, компьютерных игр, сетевых манипуляций и пр. Зритель теперь не столько рассматривает произведения, сколько посещает сеанс, как в кино, или участвует в действии, как на экскурсии. Таким образом, в современном искусстве очевидно происходит дрейф в сторону массовости. Которую принято истолковывать как демократизм (ничего не имея против такого истолкования, напомним все-таки, что искусство тоталитарных режимов тоже упирало на массовость).
Действительно, электронные носители доступны каждому, информация тиражируется предельно легко, а сеть практически неконтролируема. Любой владелец PC, подключенного к Интернету, может с минимальными затратами создать свой сайт и, теоретически, распространять свой продукт на весь мир. Короткая история Рунета полна рассказов о поразительных прорывах авторов-одиночек (свежий тому пример ? компьютерный мультик про Масяню Олега Куваева).
Все это ? приметы информационного общества, до которого, видимо, доросла наша страна. Что само по себе еще не означает ни либерализма, ни демократии, ни светлого будущего ? а только безмерно выросшие возможности, которые мы используем, как сумеем.
=
=