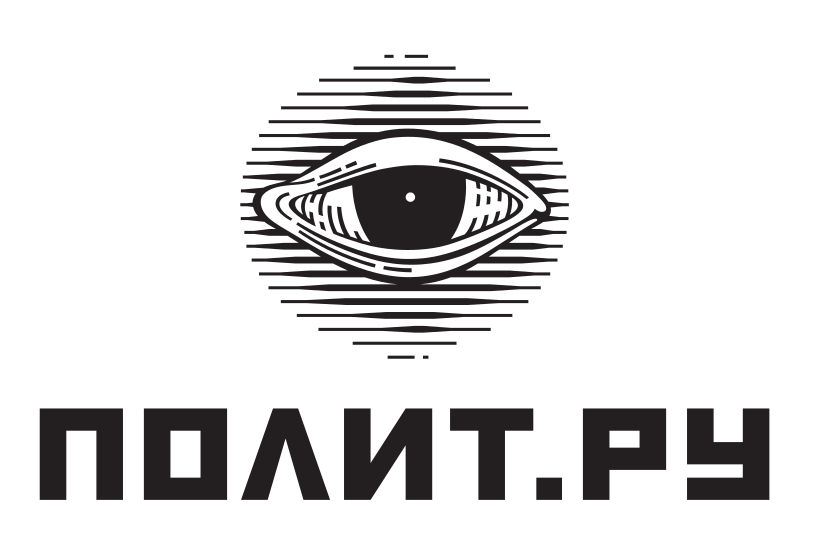14 сентября, в московском клубе «Клуб» в рамках Публичных лекций Полит.ру исследовательница культурных процессов, редактор независимого издательства «ТОМЬ» Александра Биктимирова поговорила с Лерой Антоновой про изменение формы и структуры в литературе и про новые литературные форматы.
А. Биктимирова: Всем здравствуйте! Меня зовут Александра Биктимирова, я — исследовательница культурных процессов. У меня очень много самых разных научных интересов, по первому образованию я исламский теолог, и по второму образованию я заканчиваю магистратуру культурологии. Под культурными процессами мне интересен и автофикшн, и другие вещи, которые происходят вокруг нас. Мне интересно это исследовать, как-то по-новому разворачивать и иногда я даже пишу какие-то научные статьи. Ещё по совместительству я работаю в независимом издательстве «ТОМЬ», и иногда являюсь художественным редактором, иногда корректором и иногда просто редактором. Сегодня я хотела бы поговорить о трансформации текстов между личным и публичным. Сразу скажу, что я не филолог, хотя в какой-то момент очень хотела им быть, и я буду говорить очень общо, но делать большой акцент на автофикшене и на каких-то новых форматах и формах, которые возникают в России сегодня и после 2010-х и 2000-х годов и как они в течение долгого времени возникали в литературе. Начать я хотела бы с изначального деления текстов на западные и восточные, то есть это средневековые тексты. Западные тексты — про героев, восточные тексты — воспевают долг, воспевают какие-то национальные нарративы и противодействуют христианскому влиянию. Там возникают какие-то национальные герои, национальные идеи и политические и идеологические вещи тоже. Как мне сейчас кажется, это деление литературы на западную и восточную устарело, потому что это очень ориенталистский взгляд, то есть в западную литературу внезапно входят тексты, написанные на иврите, и древнегреческая литература, и мне кажется, что это не совсем верно и не совсем правильно. А в восточную литературу входит и литература стран Африки, и это тоже странно. Текст развивается, и к XIX веку развивается вот этот традиционный европейский роман с нарративом, с главными героями и с каким-то каноном. Что такое нарратив? Это повествование, то есть это разные истории, которые имеют начало, середину и конец, это то, как мы привыкли видеть всякие рассказы и повести, и роман строится по такому же типу. Но чаще романы — они больше про публичное, про государственное, про проблемы в социуме и про проблемы внутри государства и иногда всей бюрократической структуры. Если мы вспомним школьную литературу, то это «Война и мир», а это, собственно, роман о войне как о социо-культурном событии и о том, как она повлияла на жизни других людей; «Ревизор» — бюрократические проблемы, то же самое «Мёртвые души» Гоголя, бюрократические проблемы в стране и вообще наличие крепостного права; «Медный всадник» — это памфлет лично Александру II от Александра Сергеевича Пушкина, за что он и был позже сослан. И самый важный роман, как мне кажется, который замыкает мою пятёрку лидеров, это роман «Воскресение» Толстого, который критикует судебную систему России. Как ни странно, и 100 лет назад, и в сегодняшний, 2023-й год, «Воскресенье» считается очень актуальным. Дальше возникают такие формы, как мемуары, дневники и что-то личное, и обычно это не предназначалось для публикаций. То есть человек писал «в стол» про свою жизнь и про свои личные проблемы, потом, после его смерти, эти архивы вскрывались и публиковались его родственниками. Таких историй много, например, Франц Кафка, который вообще ничего не хотел публиковать, и спасибо человеку, который владел его правами после его смерти, и издал всё, что мы имеем сейчас на руках и можем читать. Также это дневники Толстого и даже дневники Сьюзен Зонтаг, исследовательницы, которая написала книгу про фотографии и про фотографическое, и её мемуары опубликовал её сын. Он говорил, что так нужно было, что он чувствует, что это должно быть опубликовано. Так чувствовали многие, но, по сути, это все мысли, все чувства нараспашку, и в этом очень много человека, который об этом пишет. По сути, это пересказ его жизни, какая-то субъективная оценка, очень много эмоций, и то же самое можно сказать о переписках, который публиковались постфактум. Наверное, самое яркое и запоминающееся для меня — это переписка Кэти Акер и Маккензи Уорка. Это как будто бы письменный роман в буквах и в предложениях, и видно, как два человека очарованы друг другом. То, как они мыслят и ловят какие-то вещи и мысли друг друга, иногда спорят, но дальше эти отношения не продлились, они были приятелями, и переписка оборвалась. Теперь про формы. Формы начинают видоизменяться в начале XX века, и один из самых иллюстративных примеров — это роман Вирджинии Вулф «Миссис Дэллоуэй». Здесь нет какого-то нарратива, а есть очень много описаний — описаний пространств, описаний городского пространства, и это мир ощущений. Как будто бы мы врываемся в поток мыслей писательницы, которая описывает всё, что она видит — листья, скамейка, собака, женщина в пышном белом платье, которая прошла мимо — и это новаторство в литературе того времени, потому что так не писал никто. Позже стали писать по-другому — полистилистичность и смешение стилей в романе Джеймса Джойса «Улисс», и позже он начинает заигрывать в своём другом романе «Поминки по Финнегану». Есть ещё второе название, но мне ближе в переводе «Поминки по Финнегану», и там он начинает играть не только с формой произведения, но и с языком, то есть внедряет заимствование европейских языков, финно-угорских и даже языков славянской группы, и всю тонкость этих произведений может понять человек, который владеет всеми этими языками. Либо нужно иметь какой-то суперперевод, который бы в каждой сноске объяснял — вот это слово из такого-то языка, имеет такие-то обозначения или имеет двойное обозначение, допустим, зáмок и замóк, то есть какие-то такие вещи, которые могут трактоваться двойным смыслом и играть на этой форме двойного дна, я бы так сказала. Дальше я хотела бы обратиться к эгодокументам, то есть к мемуарам и дневникам, которые часто были опубликованы не по своей воле писателя, то есть постфактум после смерти. Что же происходит сейчас? Сейчас появляется автофикшн как новый жанр. Говорят, что он появился в 2010-х, но на самом деле мне кажется, что много прошлых произведений середины XX века и, может быть, даже середины XIX века по форме можно отнести к автофикшену. Как так получилось? Автофикшн — это про репортаж своей жизни, про субъективный взгляд и видение, и чаще всего это разговор от первого лица, чтобы абстрагироваться от третьего лица, и он может быть совершенно разным. Он может сочетать в себе эссе, очерки, какую-то аналитическую литературу, а иногда может быть просто исследованием какой-то темы. Ещё автофикшн — это голос человека, который мы слышим. В своём эссе «Смерть автора» Ролан Барт писал, что мы в какой-то момент не можем различить кто же говорит в романе Бальзака — Бальзак-человек, Бальзак-писатель или его персонаж? И такой вопрос можно задать каждому европейскому роману, кто сейчас говорит? Кто говорит в романе «Война и мир», Пьер Безухов, Лев Толстой-писатель или Лев Толстой-человек, который пережил свой опыт и тоже пытается вложить его в произведение? Автофикшн отменяет все эти вопросы, потому что все эти три героя сливаются перед нами в одно — есть литературное «я» и есть автор, который перерабатывает свои воспоминания и свой опыт. Писатель-индивид априори становится одним человеком, и иногда есть персонаж, который может не совпадать с автором, но всё равно транслирует его опыт и его видение субъективной картины мира. Происходит изменение смыслов — если мы читаем обычный роман, то обычно мы знаем, о чём он: смерть — это плохо, герои в конце будут вместе, любовь всё победит, и какие-то вещи, на которых держалась литература, то есть какие-то прописные истины, какой-то канон, которым должно заканчиваться произведение. В автофикшене всё меняется, это может быть суперсубъективная картинка какого-то малого отрезка времени. Одна моя подруга сказала, что очень много автофикшена завязано на том, что женщина собирает свои вещи, куда-то едет и пишет о том, как она страдает. Если взять какие-то самые важные книжки, которые я бы хотела упомянуть, то я их разделяю на книги-исследования автофикшн, где «я» автора и писателя немного отодвигается на второй план, то есть автор описывает свою жизнь параллельно повествованию, но само повествование выбирается вперёд. Что я имею в виду? Я имею в виду самую первую книгу Оливии Лэнг «К реке». Это очень интересная книга по тому, как она построена. Оливия Лэнг путешествует и путешествует пешком — она идёт по речке Уз, которая пролегает через всю Великобританию, ночует в мотелях, а всё остальное время идёт пешком вдоль этой реки, и видит, как река становится глубже, ýже и как её изменило время. И у неё есть три нарратива, три истории, которые она рассказывает в этой книге. Первое — она рассказывает свои эмоции и впечатления, что она видит, что чувствует и что она пережила, а она пережила расставание с молодым человеком, и решила так справиться с болью расставания и потери. Второе — мы полностью узнаём географическую историю этой речки Уз, то есть она рассказывает, что в XIV веке тут была такая-то битва, и в таком-то веке на берегу реки был основан такой-то завод, и все эти остатки видны и она видит их спустя какое-то долгое время. А третья история — это история Вирджинии Вулф, потому что история Оливии Лэнг как писательницы очень связана с Вирджинией Вулф, она ею вдохновлялась, и для описания этой истории она использует весь пул произведений Вирджинии Вулф. Собственно, Вирджиния Вулф погибла в этой реке Уз — во время Второй мировой войны, в 1941-м году, она боролась с депрессией, набила свои карманы камнями, отправилась на реку и погибла. На данный момент почти все переведённые книги Оливии Лэнг строятся по такому же принципу. «К реке» есть в книжном магазине, и, если вы хотите, то можете спросить. Вторая книга, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, это бестселлер Оливии Лэнг «Одинокий город», и «К реке» не так популярна, как «Одинокий город», потому что это, по сути, исследование одиночества писательницы, и она исследует феномен одиночества с разных точек зрения — с точки зрения искусства, причём самого разного — медийного, через Энди Уорхола, исследует одиночество через персоналии, через то, как можно быть одиноким, владея подмастерьями, как Энди Уорхол, и быть в центре внимания, как можно быть одиноким человеком, который вёл 24-часовую непрерывную трансляцию своей жизни, и как можно чувствовать себя одиноким, когда твоя жизнь транслируется просто так, а ты внутри своего дома всё равно один. Она исследует одиночество через историю маргинальных художников, которые творили «в стол», и потом, когда их квартиру вскрыли — я не помню имя художника — обнаружили кучу коллажей. Эти коллажи сейчас выставляются, то есть в США, в Нью-Йорке он суперизвестный художник, а при жизни его никто не знал, он был дворником. И она исследует одиночество с точки зрения психологии, с точки зрения социальных связей по Боулби и раскручивает этот феномен с разных точек зрения. Но важен момент, почему она сама этим заинтересовалась. Она рассказывает свою историю. Как мы можем судить из первой книги, она сама из Великобритании, приехала в Нью-Йорк и осталась одна, то есть она знакомилась с городом, не имея ни одного знакомого в этом городе. И она пошла в музеи, начала заниматься архивами и начала писать эту книгу. Ещё эта книга — исследование в плане упражнений в искусстве одиночества, и она подытоживает, что мы все, находясь в городе и в городском пространстве, всегда немного одиноки; мы не взаимодействуем, наши связи ограничены. И в самом конце книги она предлагает, как с этим можно мириться. И её третья книга, которая, как мне кажется, не была такой успешной, как «Одинокий город», — это «Путешествие к источнику эха. Почему писатели пьют». Это тоже путешествие по США, но не по Нью-Йорку, а по многим разным городам, в котором она исследует феномен алкоголизма и творчества писателей, причём писателей, которые писали в 1920-х годах в Америке до 1960-х — Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Джон Чивер и Реймонд Карвер. Она предлагает очень интересную статистику, кто из этих людей отказался от пьянства, но я не будут спойлерить. Это интересно читать и как путешествие по городам — как она смотрит на те города, которые описаны в источниках 1920-х, 1930-х и 1940-х годов, и с точки зрения пересечения географии всех этих писателей, то есть как кто-то с кем-то виделся, где они были — в каком-то одном баре, как они вместе эмигрировали в Париж и были в Париже какое-то время, какие у них были депрессивные эпизоды и какие-то личные проблемы, которые описаны, как и описан опыт алкоголизма, в некоторых книгах. Также она рассматривает алкоголизм через призму химии и воздействия алкоголя на мозг. По-моему, эта книга на самом деле была первой её вышедшей, то есть они выходят ретроспективно. Первая книга была — «Путешествие к источнику эха», вторая — «По реке» и третья — «Одинокий город». Позже выходили другие её книги, среди которых роман «Крудо», который автофикшн и который писался с позиции Кэти Акер — что было бы, если бы она выжила, и что было бы, если бы она оказалась в 2019-м году. Это совершенно другое видение — это попытка влезть в шкуру чужого человека и через биографические знания и знания о жизни как-то это обработать и выдать совершенно новый продукт для своего времени. Это что касается книг-исследований. Есть другая писательница, Мэгги Нельсон, и у неё есть три автофикшн-книги, на которые я хотела бы опереться. Первая — это «Синеты», совершенно новая по форме книга. Может, кто-то ещё так писал, и определённо так писал кто-то ещё — свои заметки Витгенштейн писал по тому же принципу, то есть заметка — следующая мысль, которая совершенно не имеет связи с предыдущей (а иногда имеет). Мы не знаем, в какой момент были написаны эти заметки, за один ли день, как она это структурировала, редактировала ли она их, меняла ли местами, в хронологическом это порядке или нет. Почему «Синеты»? На английском название этой книги Bluets, а blue в английском языке имеет точную ассоциацию с грустью. По сути, на русский язык она переведена как «Синеты», и можно было бы перевести как «грустинки», но это, наверное, слишком странный перевод. Это такие заметки грусти, наверное, которые тоже посвящены расставанию и каким-то внутренним проблемам, но и исследованию синего цвета. Здесь всё идёт вперемешку, 50/50 процентов, её жизнь и её грусть будто бы выходят больше на передний план, и синий цвет является спутником этой грусти и спутником её исследования о том, чем является для неё синий цвет и чем являлся синий цвет для Витгенштейна и для каких-то других людей. И Гёте писал, что синий цвет — это цвет бога, то есть она ударяется в разные метафизические аспекты цвета и таким образом исследует его, но больше книга, конечно, про страдания и грусть. Другая её книга совершенно другая, извините за тавтологию, — это автотеория, и эта книга называется «Аргонавты». Про что она? Она про говорение и про безумную рефлексию, самая главная мысль в ней — старая мысль, мне кажется, веками существующая — если мы по частям заменим корабль Арго, будет ли это тот же корабль или это будет новый корабль? И она пытается ответить на этот вопрос, исходя из личного опыта, из того, как у неё поменялась жизнь и как она сейчас существует, если смотреть с точки зрения зрителя и прохожего, который не включён в историю семьи гетеронормативного брака, который на самом деле таким и является. Здесь очень много именно теории и очень много рефлексии самой ситуации и ситуации в мире, которая происходит. Это не страдания, это скорее эссе и какая-то книга, которая даёт ответ на вопрос, исходя из чужого опыта. Во-первых, можно соприкоснуться с этим опытом, чего обычно не происходит, или происходит, но как-то очень мимолётно, прочувствовать его и пережить через эту субъективную боль, которую она описывает. Это не всегда боль, иногда это и радость, и какие-то вещи, с которыми, допустим, я или вы, находясь в этом теле, в этом городе и в этой стране никогда бы не столкнулись, но с ними сталкиваются миллионы людей — постоянно и на каждодневной основе. И такая же автотеория — это книга Одри Лорд «Зами: как по-новому писать моё имя». Наверное, нужно сказать, что Одри Лорд — это очень известная активистка США и одна из самых знаковых фигур, и это её автобиография, но автобиография, которая написана языком поэтессы. И здесь как раз можно прочувствовать на себе, каково это — быть чёрной женщиной в 1950-х годах, каково родиться чёрной женщиной, каково иметь очень маленькие квоты на образование, каково годами копить на печатную машинку, потому что всё чёрные — безграмотные, и «белый мир» 1950–1960-х годов говорит о том, что они должны оставаться безграмотными, и мы не будем никак поощрять их волю к знанию. Она рассказывает, как она работала на заводе вместе с другими чёрными людьми и как они каждый день подвергались и химическому, по-моему, воздействию, и радиоактивному. Она там проработала точно около пяти лет, и после этого у многих женщин и у многих мужчин были проблемы со здоровьем. Естественно, никакая страховка это не оплачивала, и туда специально сгоняли людей такого происхождения. У неё есть ещё другая книга, «Сестра-отверженная», и это скорее сборник её программных статей и воспоминаний о её поездке в Россию. Это тоже очень интересно, но «Зами: как по-новому писать моё имя» — это про её происхождение, про её историю жизни, про её романы и про то, как она жила свою жизнь; по сути, это путешествие в прошлое, попытка вспомнить всё и рассказать. И эти попытки вспомнить всё и рассказать — это тоже про «Рану» Оксаны Васякиной, где она рассказывает про свою мать и про своё детство, про книгу «Разрыв» Джоанны Уолш, которая тоже садится путешествовать и пытается отрефлексировать два пойнта. Первый — это вообще в принципе что такое любовь и как любовь возможна в XXI веке через социальные сети, может ли этот контакт быть натуральным или мы объективируем друг друга и просто видим друг друга, как предметы и как какой-то написанный на экране текст, не видя какого-то живого человека. Ещё я бы сказала, что это книга-путешествие Лидии Юкнавич «Хронология воды», которая недавно вышла и которая вроде как должна экранизироваться Кристен Стюарт. Насколько скоро она будет экранизироваться и как скоро она выйдет, я не знаю, но это просто такой распространённый факт. Лидия Юкнавич случайно попала в литературу, и она описывает свой опыт — опять описывает опыт суперпотерянного человека, опыт своей юности, опыт пловчихи, опыт странных взаимоотношений с матерью и отцом, опыт своих любовных приключений и опыт женщины, которая пережила мертворождение своего ребёнка, то есть книга начинается с этого. Это тяжело читать и это тяжело чувствовать, но это как будто бы маленькая дверка в другой мир, как заглядывает Алиса в Стране Чудес, и это возможность соприкоснуться с другими женщинами и с их опытами. Ещё я выделяю такой сегмент книг — книга-репортаж, наверное, можно так сказать, и это книга Эми Липтрот «Момент» и «Выгон». Первая книга, «Выгон», тоже про алкоголизм, но про её личный, собственный и про её путешествие обратно на Шотландские острова — что она понимает, как она борется с алкоголизмом, что она видит и что она чувствует. А вторая книга, «Момент», это посвящение всем тем, кто несчастливо любил, и это её путешествие в Берлин. Она описывает, как она ходила на свидания, как она обрела отношения и как она их потеряла, и потом, уже позже, она рефлексирует над этими отношениями — что произошло и почему она так долго их не отпускала. «Момент» мне понравился больше, чем «Выгон», потому что это было как-то ближе, и любой автофикшн, мне кажется, работает так же — мы выбираем, читаем, и то, что нам ближе, то и больше откликается. Условно, человек пишет о каких-то проблемах, которые мы тоже имеем в своей личной жизни, и неважно, какого плана и какого характера, и это откликается, потому что это очень рядом. Ещё одна книга-репортаж — это первая книга Мэгги Нельсон, «Автобиография суда». Это автобиография суда тёти Мэгги Нельсон, которая погибла до её рождения. И когда мы слушаем true crime истории про маньяков, в этом есть какая-то загадочность и есть интерес узнать, что было у них в голове, когда они так делают, но есть очень мало таких историй, рассказанных с позиции жертвы, потому что это всегда тяжело и часто это просто невыносимо. И здесь, с одной стороны, это автобиография суда, а с другой стороны, это то, как две смерти повлияли на две семьи, и как одна смерть влияла на следующее поколение детей и на следующее поколение тоже, потому что это не было проговорено, не было прожито и было замолчано. И из-за того, что никто из родителей не прожил в 1950–1960-х годах, это просто были какие-то страхи и какие-то психологические вещи, которые как слон в комнате — никто его не замечает, но он есть, и мы все делаем вид, что его нет, и не обращаем на него внимания. На самом деле, меня поразил финал «Красных частей», я рекомендую их к прочтению и вообще, всю Мэгги Нельсон рекомендую к прочтению, потому что она автор контрастов. Если вы будете читать книги Эми Липтрот «Момент» и «Выгон», то они очень сильно похожи. Стилистически они построены в форме путешествий, есть какие-то мысли, которые пересекаются, тема романов разная, но форма +/- одинаковая. А Мэгги Нельсон играет с формой — и «Синеты», и «Аргонавты», и «Красные части» не похожи друг на друга по форме, и это тоже очень интересно. Ещё я хотела бы сказать про книгу, про которую я думаю, что это автофикшн, и это моё субъективное мнение. Эта книга была написана Ассой Новиковой, она называется «Tbilisi loves you». Здесь тоже погружение в город, путешествия и субъективное видение автора города — какие-то знакомства, встречи, разговоры, обрывки и очень много стихов. Это очень радостная книга, она дорогого стоит — эта книга о влюблённости в город, влюблённости в Тбилиси, и когда я её читала в 2019-м году, я думала, вот бы мне такие глаза, вот бы мне такое мироощущение и восприятие, чтобы я приехала в Тбилиси и увидела то же самое, что видит эта женщина, которая это описывает. Интересно, что у Ассы Новиковой ещё есть отдельно стихи, и есть вот это путешествие: «лирический гид для путешествующих в прекрасное». На самом деле автофикшн может быть разный, просто я сейчас говорила о том, что я читала, что я видела и как я могла бы немножко их систематизировать, и «Tbilisi loves you» — это очень радостная книга, она не о страдании, и слава богу! Потому что в автофикшене много переживаний, и это, может быть, способ терапии — способ говорения и способ выговаривания каких-то своих проблем, которые невозможно никому донести, но есть лист бумаги и ручка, и есть возможность таким образом поговорить с собой и задать какие-то вопросы, как раз побыть в этом моменте рефлексии и, может быть, даже уйти куда-то дальше. Для кого-то это может быть буст, для того чтобы исследовать себя и мир, то есть не замыкаться только на своей истории и писать мемуары, а рассматривать свою историю как часть чего-то большего, как это делает Оливия Лэнг. И последнее, что я хотела бы сказать — так как я работаю в издательстве «ТОМЬ», недавно у Игоря Шумова вышел роман «В мире животных и немного людей», и там тоже встаёт вопрос об эгоизме человека и о внутреннем эго автора. Тут я хотела бы привести две разные точки зрения. Я очень люблю автофикшн, и я чувствую, что это как будто бы что-то настоящее, потому что это очень похоже на дневниковые записи — как будто бы человек разговаривает с тобой через лист бумаги, транслирует тебе все свои мысли и эмоции и это похоже на письмо многим людям, открытое письмо, очень честное, очень искреннее и очень сокровенное. Но есть и другая точка зрения, что это может быть перформанс рассказчика. Рассказчик может быть слишком субъективным, может выставлять какие-то вещи в слишком неприглядном свете или наоборот, некоторые вещи — в очень приглядном, как-то сглаживать повествование. И вот это настоящесть автофикшн, которая на самом деле подкупает и привлекает, может быть суперложной, и мы не можем объективно относиться к самим себе и объективно относиться к своему творчеству. И в этом романе, «В мире животных и немного людей», как раз частично затрагивается этот вопрос — где проходит граница между автором, персонажем и писателем, как её отделить и можем ли мы так просто отделить автора и от героя автофикшена, и правильно ли мы делаем, что всегда можем поверить автору автофикшена? То есть правильно ли ему всегда верить? Это такой, открытый и подвешенный вопрос.
Л. Антонова: Спасибо! У меня есть несколько вопросов, которые интересны лично мне и, надеюсь, нашим зрителям тоже. Когда мы только задумали нашу встречу, я начала читать твои статьи и немножко автофикшн, чтобы немножко погрузиться в эту историю, и размышляла об этом с друзьями. И я обращаюсь к той мысли, которую ты сегодня в начале тоже озвучила, когда перечисляла этапы, как менялась история и структура литературы — что у автофикшн нет какой-то определённой точки отсчёта, с которой начинается этот жанр, потому что он вроде как современный. И есть примерные годы, когда он сформировался, о которых ты тоже упоминала, но многочисленные исповеди — как раз была озвучена мысль о том, что толстовские «Детство», «Отрочество» и «Юность» — это тоже своего рода автофикшн. Ну, в определённом роде. Если откатиться ещё дальше, очень-очень далеко, к сказителям — это люди, которые исполняли былины и баллады, были такие, перед литературой, которая в конце концов созрела как литература, как письменный и печатный формат. Вопрос такой — в одной твоей статье, где ты определяешь автофикшн, ты пишешь о том, что этот жанр можно определить как говорение, и получается ли так, что по формату этого говорения мы откатываемся к сказителям?
А. Биктимирова: Я думаю, что нет, потому что если мы откатываемся к сказителям, то они же транслировали определённые мифы, которые строятся по определённым канонам, а автофикшн строится не по определённым канонам. И ещё мне кажется, что автофикшн возможен тогда, когда это фикшн, то есть что-то написанное. Условно, я пишу на бумаге: «Я проснулась в семь утра, не выспалась, меня сегодня очень больно сбила плечом тётка в метро, у меня были такие-то проблемы на работе и ещё я страдаю от несчастной любви…». Кстати! Ещё я вспомнила воспоминания Шанталь Акерман, в которых она пишет о своей матери. Так получилось, что в начале 2022 года я прочитала Шанталь Акерман «Моя мать смеётся» и прочитала «Рану» Васякиной буквально одну за другим, это про дочерне-материнские отношения. И здесь в ответ на твой вопрос я бы точно сказала «нет», я просто вспомнила Шанталь Акерман, и вспомнила, что это ещё один подтекст в автофикшене. А сказители — это больше про мифы и больше про религию и религиозное самосознание, там же есть архетипы героев, есть вот эта знаменитая вещь, которую потом раскладывал Юнг, что в очень многих мифах есть момент, когда сын убивает своего отца и таким образом становится главой своего рода, и, если говорить сегодняшним языком, сепарируется от своей семьи и от воли отца, убивая его, то есть встав на его место — и это про канон. Автофикшн совершенно не про канон, он может быть каким угодно. Он может начинаться с конца, начинаться с начала или с середины, история может закольцовываться друг с другом, она может идти из прошлого, она может быть с разрывами, как и воспоминания. Когда мы читаем воспоминания человека, который 5–7 лет вёл дневники, где-то утерянные или утраченные, то этого просто нет, а в каноне мифологии, в говорении, в сказаниях и в устном творчестве это всегда присутствует.
Л. Антонова: Хорошо. Тогда такой вопрос — сейчас ты сказала про очень разную форму, про то, что книга начинается с разных мест. Я сейчас читаю Герарда Реве «Книга о фиолетовом и смерти», и там тоже была интересная мысль, которую транслировал герой, про роман-диск, который можно будет начать читать с любого места. Я подумала, что это снова про форму, и можно ли сказать про авторов жанра автофикшн, что они во многом ориентируются на форму? Потому что даже эти «Синеты», про которые я тоже прочитала ранее, не совсем стандартная история, просто это не та литература, которую мы привыкли читать. Какую роль вообще играет форма?
А. Биктимирова: Везде по-разному, всё зависит от автора. Если мы берём стандартную книгу-путешествие, то там есть начало-середина-конец, и путешествие выстраивается линейной структурой. Есть старт-начало, и либо мы возвращаемся к старту, либо мы идём дальше. Как происходит конец в книге «Момент»? Эми Липтрот рассказывает историю, но история заканчивается не на расставании, как закончилась бы в классическом европейском романе — она приехала в Берлин, встретила молодого человека, у них были отношения и расставание, и всё, история на этом заканчивается — но в автофикшене она не заканчивается, потому что она понимает, что её до сих пор держат эти чувства. Как бы самой истории нет, но есть она и эти чувства и её мысли, которые никак не выражаются, и есть она через много-много лет, и она возвращается и рефлексирует то, что было довольно давно, и вот это главное отличие. Как происходит некоторое строение книг? Книга «Инферно» Айлин Майлз — это тоже очень интересная книга. Она написана поэтессой, там очень интересная форма, и она скачет максимально нелинейно — правда, скачет по своей жизни. «Зами: как по-новому писать моё имя» — +/- линейна, Оливия Лэнг — +/- линейно, то есть если мы идём «К реке», то она идёт к реке, а если мы берём «Одинокий город», то есть какой-то промежуток времени, где она живёт в этом временном промежутке и в этом городе. «Tbilisi loves you» — тоже, это место, ограниченное городом и временем препровождения, в котором, как мне кажется, +/- повествование идёт в хронологическом порядке. Здесь же есть совершенно разные формы, есть Мэгги Нельсон, которая играется с формой как угодно и вытворяет всё что угодно — у неё и автобиография одного суда, и автотеория, и «Синеты», но есть люди, которые +/- подвержены этому канону, но они играют не совсем с формой, а с нарративом. Мы привыкли, что нарратив — это история, которая рассказана с начала и до конца, и если мы берём книгу-роман Лидии Юкнавич «Хронология воды», то с первых страниц она описывает, как она пережила мертворождение своего ребёнка, и это старт. И только потом мы узнаём о её детстве, об отношениях с отцом, о подростковом периоде, о её первом браке — как он начался и какие были взаимоотношения, и все эти моменты пересекаются только в каком-то моменте, к которому она подводит. Исследуя и рефлексируя свою жизнь, она видит какие-то связи, которые не видит никто, кроме неё, и рассказывает о них. И в этом, наверное, и прелесть автофикшена — в том, что человек изнутри, пока он пишет, во-первых, исследует себя, исследует свою жизнь и постоянно рефлексирует над ней, ища какие-то события-совпадения или события, которые как-то друг с другом связаны, но он до этого никогда это не замечал.
Л. Антонова: Скажу, наверное, некрасивую вещь, но, в целом, для лучшего понимания и для очень-очень-очень упрощения у меня возникает такая ассоциация, что вся эта история с жанром автофикшн образно похожа на блогерскую историю, которая окружает нас в разных жанрах и в разных форматах. То, что мы видим в социальных сетях — это те же самые путешествия. Вот ты говоришь, что это находится между личным и публичным, но тем не менее это всё — обращение к своим собственным переживаниям, но книга «Зами: как по-новому писать моё имя» — это всё-таки личное через призму публичного так или иначе, это какая-то социальная история, гражданская даже.
А. Биктимирова: Это манифест, да.
Л. Антонова: Книга «К реке» и путешествие Оливии Лэнг… Это у меня просто такая ассоциация, а вопрос звучит так — с людьми, которые внутри литературы, особенно внутри современной и внутри текста понимают всю эту историю, и наш язык постоянно менялся, если взять историю нашей страны, постоянно находились люди, которые трансформировали язык, экспериментировали и играли по-новому. Сегодня мы живём в очень странные времена, и не совсем понятно, какой язык актуален сегодняшнему дню. Можно ли сказать, что язык этого жанра переносится в такие личные мысли, но в книге это уже что-то выстраданное и более содержательное?
А. Биктимирова: Тут как посмотреть, на самом деле, просто сам жанр автофикшена появляется и формируется как термин в 1980-е, и мы можем на многое смотреть ретроспективно, и говорить, что, мол, Ги де Мопассан в этом своём произведении очень похож на автофикшн, но тогда такого понятия не было. Поэтому здесь важно разграничивать, и не говорить, что Гомер тоже писал автофикшн. Естественно, нет. Но про блогерскую историю как будто бы и да, и нет, потому что блогерская история — это больше про картинку и визуальный опыт, а визуальный опыт всегда идеологичен, то есть там всегда есть идеология. Хотя в текстах тоже всегда есть идеология, и есть какие-то мысли и фразы, которые несут мир, и мы не всегда можем сказать, что автор объективен к каким-то событиям. Но ещё важно, что автофикшн — это эмоции, это очень эмоциональный текст, и иногда, когда человек пишет автофикшн, он может не редактировать его. Один из примеров автофикшена — у нас в российском книгоиздании очень много переводят именно женского автофикшена, но есть и мужские авторы. И есть один текст-автофикшн, там три или пять томов, а автора я вам, к сожалению, сейчас не скажу. Там мужчина просто понял, что у него творческий кризис, и просто садился за бумагу и писал всё, что с ним происходило за сегодняшний день, в третьем лице, и эти три тома были изданы без редактуры. То есть всё, что он написал как на духу, были дневники, но он понимал, что это будет издаваться. Его первоначальная задумка была — справиться с самим собой и заставить себя писать, то есть это был инструмент писателя, но этот инструмент вышел из-под контроля и стал интересен сам по себе как жанр и как форма, потому что это опять та искренность, о которой я говорила. И визуальная форма блогов — это как будто бы — сейчас я скажу странную мысль, но это тоже моя субъективная мысль — очень легко фальсифицировать. Есть редакторские приложения, есть Photoshop, в котором себе на фоне можно наложить море, убрать лишние килограммы, сделать лицо живее, бодрее и лучше, убрать капилляры и так далее. То есть сделать дорогую и красивую картинку, которая продаётся. Автофикшн — он не про дорогую картину, он про эмоции, мысли и чувства, и мне кажется, что даже на протяжении такой книги, как «Зами: как по-новому писать моё имя», которая была написана даже раньше, в 1982-м году, когда, во-первых, не было понятия блогерства, а во-вторых, очень тяжело врать на протяжении стольких страниц — очень тяжело фальсифицировать, куда-то выпадать и не помнить все факты, которые ты сказал до этого. Поэтому быть искренним — здесь это выбор, как мне кажется.
Л. Антонова: Но ты и сама говоришь, что стоит вопрос о том, можно ли на 100% доверять авторам.
А. Биктимирова: Но это не моя точка зрения, это точка зрения основателей издательства «ТОМЬ», и это небольшая реклама «В мире животных и немного людей», потому что там поднимается этот вопрос!
Л. Антонова: Вообще, ты сейчас сказала, что больше всего публикуют, выпускают и переводят женщин. А женщин как будто бы в этом жанре вообще больше, нет?
А. Биктимирова: Нет, на самом деле нет, просто многие книги не переводят. Как мне кажется, есть какие-то книги, в которых заинтересованы крупные издательства, такие как Ad Marginem. Они успешно переводят Рейчел Каск, но мне Рейчел Каск не очень близка, потому что это повествование достаточно богатой женщины в Лондоне, и она описывает проблемы, к которым моя жизнь не имеет отношения, потому что есть какие-то вещи, которые в Лондоне гораздо лучше, чем в Москве и чем в России. Это иногда странно читать, просто не сложился мэтч, условно. А мне нравятся книги — опять-таки, субъективное мнение и субъективный взгляд, где есть возможность посмотреть чужими глазами на вещи, с которыми бы я в своей жизни никогда не соприкоснулась — это и «Зами», это и Шанталь Акерман, это и «Красные части»… Надеюсь, я никогда не переживу то, что пережила Мэгги Нельсон, потому что это правда очень ужасные вещи. И «Tbilisi loves you», потому что мне кажется, что я не смогу смотреть на Тбилиси такими глазами, какими смотрела Асса Новикова в 2019-м году.
Л. Антонова: Ты являешься редактором в издательстве, и задача редактора — отличать удачное от неудачного, руководствуясь какими-то определёнными принципами. И вот ты, работая с жанром автофикшн, какими принципами руководствуешься, когда редактируешь тексты? Потому что это всё-таки тоже про какую-то личную историю, правильно?
А. Биктимирова: Не совсем. Я не хочу спойлерить, но да, там есть немного личной истории. Но это не жанр автофикшн, это не совсем то в моём понимании. Когда я редактирую текст, я пытаюсь отбросить своё личное и полностью погружаюсь в текст, руководствуясь простым принципом — если бы я прочитала это в книге, мне было бы это «ок» или «не ок»? Если я читаю и вижу какой-то неудачный момент, то я прошу это переписать, потому что это просто неудачно выглядит. Иногда это может быть лишено какой-то логики, иногда это может упускать какие-то моменты, которые я вижу в повествовании, это можно вставить в другое место, чтобы это было более красиво, наверное, или лучше бы смотрелось. Я смотрю на какие-то художественные варианты, как можно некоторых персонажей задвинуть, а некоторых наоборот, вынести вперёд, если это художественная литература. И в книге «В мире животных и немного людей» так оно и было — это были 14 разных версий книги (приоткрою завесу!), и все 14 намного отличаются друг от друга. То есть это полноценная линейная работа, и я бы сравнила это с тем, что есть камень, на камне есть какие-то наметки, но, чтобы сделать полноценное произведение, которое бы вышло в мягкой обложке на книжном прилавке, нужна работа, нужно перечитывание автора, редактора и ещё других людей, которые читают книгу. Потому что, как мне кажется, во-первых, одного взгляда недостаточно, во-вторых, каждый из нас всё равно какие-то вещи воспринимает субъективно, и некоторые вещи я просто могу пропустить глазами, потому что у меня глаз замылился, а другой человек посмотрит и скажет: «А, вот тут что-то не то!», и там оказывается, что имя главной героини вообще перепутано с другим именем, а я уже привыкла в трёх последних версиях видеть именно так. Поэтому это кропотливая работа и иногда тяжело убеждать автора принимать правки, потому что «как же так, это же моя самая лучшая работа, а ты тут со своими правками лезешь!». Да я и сама такая же — когда я пишу статьи, и у меня выходили статьи под редактурой в разных зинах, я все правки воспринимаю в штыки, потому что первая версия как будто бы самая лучшая и самая выстраданная, а потом «ну да, ладно, хорошо, здесь это правда смотрится лучше». Но ещё же есть разные редакторы и разные люди, которые по-разному работают с текстом. Есть редакторы, которые пытаются пропихнуть какое-то своё мнение, и сказать: «Вот так мне не нравится, переделывай!», а есть люди, которые с вниманием и с какой-то бережностью относятся к тексту, который уже был написан, и пытаются его редактировать и делать лучше, сильно не задевая чувства автора и смотря на текст как на что-то уже цельное, но что нужно улучшить и проапгрейдить, и это два совершенно разных подхода. К сожалению, в российском книгоиздании, насколько я знаю, и вообще, не только в книгоиздании, а в любой редакторской деятельности часто присылают довольно грубые правки. Это может быть обусловлено опытом, и автор может быть не согласен с ними. И ещё одна заметка — оказывается, те переводы, которые мы читаем, это 80% редакторской работы, потому что сами переводчики не редактируют переводы, иногда это просто подстрочный перевод, и редактор из этого делает книгу той, которую можно читать. Раньше это было лучше в том плане, когда был институт советских переводчиков и был институт издателей, и издатели очень старались, чтобы вышла хорошая книга. Например, это детская книга «Властелин колец» Толкиена, советская, с этим странным персонажем. Поэтому об этом надо помнить всегда, и всегда всё, что мы видим в переводе, это недостаточно, потому что книгоиздание большей частью независимое, в оригинале как будто бы всегда лучше читать, но читать книги, которые издаются, это поддержка всем — не только авторов, которые находятся в других странах, но и книгоиздания, которое старается и пыжится изо всех сил, издавая какие-то книги, имея практически ноль рублей и ноль копеек на какую-то работу. И переводчики трудятся за прожиточный минимум, чуть выше прожиточного минимума, это очень низко оплачиваемая работа. Поэтому поддерживайте книжные магазины! Поддерживайте книгоиздание! Покупайте книги в независимых книжных магазинах!
Л. Антонова: Супер! У меня последний вопрос, это заключительный вопрос и я часто задаю его здесь, на сцене. Меня вообще вдохновляют люди, которые в сегодняшние времена упорно продолжают делать своё дело, даже если оно не очень большое, но тем не менее. Я посмотрела работу издательства, паблики и социальные сети, и я вижу, что есть моменты, когда проживаются сложности, видимо, в связи со временем, в котором мы живём. Вопрос очень простой — что вообще даёт силы сегодня? На чём ты держишься и что тебя вдохновляет?
А. Биктимирова: Наверное, как раз опыт других людей. Книга, которую я прочитала в марте 2022 года, это Сьюзен Зонтаг «Смотрим на чужие страдания», и она как-то чуть-чуть вставила голову на место, и Вирджиния Вулф тоже. Вообще, комьюнити людей, которые понимают, что они объединяются, пока непонятно, зачем, и пока непонятно, что они будут делать дальше, и так спонтанно летом 2022 года появился Reading-клуб, который я веду. Раньше это была не художественная литература, а больше критическая, связанная с феминистской литературой, связанная с культурными исследованиями и с какими-то программными книгами. И, когда эти люди просто начали еженедельно встречаться и разговаривать о книгах и о впечатлениях, то это как раз было очень хорошее ощущения спасения от одиночества. Пусть это было онлайн и пусть это было с использованием каких-то инструментов и технологических возможностей, просто было ощущение, что ты в этом не один. Искать общности, читать книги и искать вещи, которые стабильны, как солнце, как море, как ветер и как камни. Лидия Юкнавич, после того как она описывает, как она справлялась со своей эмоцией и с ощущением пережитого мертворождения ребёнка, говорила: «Собирайте камни! Ходите вдоль рек, собирайте камни и складывайте их на свою кровать, на свою тумбочку и на свои полы, чтобы у вас не осталось места, потому что камни — это земля, а земля — это сила».
Зритель 1: У меня вопрос по поводу автофикшена и его определения. Вы много говорили о терминологии и о жанровой специфике, но мне показалось, что автофикшн — это скорее история про какую-то борьбу за пространство. Я читал статью на ТАССе, и вычитал, что где-то в 1970-х годах был какой-то писатель или философ, который заявил, что «всё, довольно персонажей, за которых мы можем спрятаться — теперь мы, реальные люди, которые пишут о себе и дополняют себя, пускай мы не великие личности, но мы ещё что-нибудь от себя добавим во всю эту историю!». Это звучит неубедительно как новая жанровая специфика, просто как будто бы литература это знала и так. Но мне кажется, что важен этот постмодернистский или метамодернистский ход, когда ты что-то называешь новым именем и присваиваешь это себе из-за жажды остаться вот в такой стези; вот ты изобрёл для себя новый жанр — и ты его представляешь. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но это то, в чём мы живём, и в целом это довольно свойственно сегодняшнему веку, когда ты пытаешься завоевать пространство, как можешь — зачастую, через слова, например, через феминитивы, за которые многие борются там, где это возможно. Насколько справедлива такая оценка? Что это именно про социальное отстаивание себя и своего творчества в истории, чтобы не дать его замазать великим классикам, сохранить для себя такую ячейку, про которую через сто лет даже никто не вспомнит, но в какой-нибудь истории литературы это останется как автофикшн. Потому что можно долго спорить, Лимонов — это автофикшн? Нет, потому что он так себя не называл, и мне кажется, что автофикшн — это то, кто себя так называет, как это у нас работает с гендерами или с прочими вещами. Насколько такая точка зрения может быть справедлива?
А. Биктимирова: Вообще, автофикшн — это больше про свои эмоции и про свои чувства, но это обрывки, и это вообще может быть бессвязный текст, многие про это забывают. То есть это может быть просто написанная абракадабра, и изданная так, как она написана, при этом это очень странные трансгрессивные формы, которые сейчас назвали автофикшеном, который стал популярен в Европе в 2000-е и в России в 2010-е. Например, «Зами» — это биомифография, и она ни слова не говорит об автофикшене, или «Красные части» или Вирджиния Вулф. Опять же, этот роман очень похож на субъективное видение автора, за которым прячется всё остальное повествование, и все герои, на самом деле, не нужны. Поэтому вопрос про завоевание пространства — да, мне кажется, некоторые работы имеют место жить, и также про завоевание пространства — это то, что я говорила про опыт, то есть попытка оставить свой голос о своём опыте. В таком плане — мне кажется, точно да. С феминитивами тоже весело, потому что они появились в 1920-х…
Зритель 1: Я не про это, а я про то, что это похоже на это, как бы борьба за слова, чтобы оставить себе пространство хотя бы в словах, потому что слова тоже важны для самоопределения точно так же, как и для писателя.
А. Биктимирова: Мне кажется, что нет, и мне кажется, что многие такую позицию вообще не транслируют. Если и оставить, то опыт, сказ о своём опыте, который обычно не видим в классической европейской литературе, он совсем там не представлен.
Зритель 1: Просто когда вы говорите про формы и про их особенность в автофикшене, мне кажется, что это значимо для автофикшена как для определения жанра. Но ведь поток сознания изобрели не в автофикшене — это было давно, это были битники. У Джойса тоже была довольно своеобразная форма, какая-то новизна и какая-то некая вызывающая основа характера формы. И это не придумано вчера, а это столетия развития литературы, и про субъективный опыт — литература — она вся про субъективный опыт!
А. Биктимирова: Та же «Война и мир» — это не субъективный опыт Толстого, он не видел войну, он работал в архивах и основывался на записях.
Зритель 1: Толстой видел войну — он прошёл Крымскую войну и был в обороне Севастополя.
А. Биктимирова: Крымскую — да, но Отечественную, про которую он писал, нет. И здесь есть подводные камни — битники писали, но под чем они писали? Под веществами, а это совсем другое.
Зритель 1: Не прям сразу под веществами, мне кажется, по-разному бывало, иногда и на трезвяк могли что-то выдать!
А. Биктимирова: Бывало по-разному, но были периоды, когда они писали прям под веществами, и это были опыты, тот же Кен Кизи — алкоголь, вещества. Мы говорим немного о других измерениях одного и того же текста. Безусловно, во всех них есть преемственность — Кен Кизи учил Лидию Юкнавич, и последний роман, который был написан студентами-магистрами — на самом деле она не была ни студентом, ни магистром, она просто туда пришла, потому что её позвала подруга и она тоже писала этот роман. Его можно загуглить, это уже на рубеже жизни Кена Кизи. На самом деле всё связано со всем, и все люди, мастодонты литературы того времени, естественно повлияли на людей, которые потом писали автофикшн, и потом были активистами впереди какого-то своего движения — Одри Лорд, Кэти Акер. Безусловно, они пересекались с этими людьми, потому что они были в одной стране и у них была такая возможность. Эти связи есть, но и субъективные связи тоже есть, но они же не выпячиваются в традиционном романе. «Война и мир» — главное здесь не личность Толстого, даже если он вписывает какие-то события из личной биографии, как предложение, то оно там имеет эпизодическую роль и добавлено больше для красоты.
Зритель 1: Но ведь субъективный опыт войны Толстого тоже важен. Там же идея в том и заключается, что война никогда не меняется. Когда он описывает Бородинское сражение, то у нас это перекликается с теми же писателями, которые даже о Второй мировой войне писали — ужас и суматоха. Мне кажется, что не так важно, чем стреляли или как подвозят боеприпасы, на санях или на машинах. Мне кажется, что это всё-таки во многом история про Толстого и про его взгляд на жизнь.
А. Биктимирова: История Толстого — в «Крымских рассказах», я прямо чётко ограничиваю.
Зритель 1: Это автофикшн, «Крымские рассказы»?
А. Биктимирова: Нет, это не автофикшн, но там прямо субъективная история Толстого и его ужас войны, который он описывает — субъективный, который он видел. А Бородинское сражение он не видел, он не был там.
Зритель 2: Здравствуйте! Вам не кажется автофикшн как жанр несколько противоречивым? Мне кажется, что вы упоминали об этом в начале вашей лекции, что то, что отличает личный опыт от какого-то традиционного нарратива, под ним может быть тяжело подвести итог? У него может не быть структуры, прогрессии, темы и вывода, личный опыт — это стечение некоторых обстоятельств, у которых может не быть какого-то итогового смысла. Но в книгах, о которых вы сегодня говорили, как я понял, личный опыт в большинстве случаев связывается с какими-то социальными проблемами. Вам не кажется, что в этом есть некое противоречие?
А. Биктимирова: С одной стороны, и да, и нет, потому что каждая книга по замыслу автора строится каким-то образом, и на самом деле очень тяжело ограничить рамки автофикшена, и сказать, что это — это, и очертить какую-то понятную область, потому что есть разные книги, разные выводы и разные формы написания, которые мы не можем свести к тождественному даже в рамках одного автора. Мэгги Нельсон, «Красные части» и Мэгги Нельсон, «Синеты» — это две абсолютно разные книги, это суд и реальные материалы суда, которые были, и это воспоминания, её воспоминания, воспоминания её детства и какие-то воспоминания её матери о каких-то её повадках, которые выдавали страх смерти близких людей, и то, как вообще со страхом смерти справлялась вся её семья. А «Синеты» — это как будто бы просто заметки в телефоне про грусть, будто она взяла и распечатала много заметок. Как назвать это одним словом? Поэтому это и говорение, и субъективный взгляд, и вообще, самое точное описание — это жанр на пересечении других жанров, что-то между мемуарами, личным дневником и рассказом.
Зритель 3: Здравствуйте! Не кажется ли вам, что вся история с автофикшеном немного напоминает споры о феномене женского письма? О котором говорили Элен Сиксу и Люси Иригарэ, о его существовании и о том, можно ли свести все книги автора к этому стилю женского письма. И подвопрос к этому — не кажется ли вам, что можно поставить знак равенства между женским письмом и автофикшеном только со стороны женского письма? То есть не весь автофикшн — женское письмо, но почти всё женское письмо — автофикшн; только женское письмо, которое именно феномен феминного стиля, если вы знакомы с ним.
А. Биктимирова: Да. Мне кажется, что нет, мы не можем поставить равенство, потому что автофикшн — это про разный опыт и не только про опыт женщин, а и как раз про мужчину, про которого я рассказывала, что он написал три тома своих дневниковых, но не совсем дневниковых воспоминаний, и опубликовал это. Если обращаться к таким мастодонтам, как Сиксу, то это про теорию. Она эмоционально пишет с феминистской оптики про письмо, как литературовед, и это не автофикшн, а это её статья или эссе. И мне кажется, что женское письмо как феномен появилось раньше, потому что важно было найти свою точку зрения на этот мир, отказываясь от male gaze (мужской взгляд) по Лауре Малви. Если мы обращаемся к статье Лауры Малви, то она пишет о том, что, когда мы смотрим фильм, мы смотрим его мужским взглядом, и этот мужской взгляд пронизывает всё — камеру и режиссёра. И, будучи женщиной, мы всё равно смотрим фильмы с этим мужским бэкграундом, и попытка найти женское письмо — это попытка отказаться и полностью стереть этот male gaze, и найти что-то новое, вообще не похожее на это. И вот это новое и совсем непохожее на это мы можем назвать как угодно, это могут быть какие угодно формы — например, просто рассказы. Или — опять — Вирджиния Вулф и её роман «Миссис Дэллоуэй» — это про автофикшн и точно женское письмо. Но могу ли я назвать его автофикшеном сегодня? Скорее нет, чем да, потому что эта книга написана достаточно давно, и таких книг много, на самом деле, например, Сильвия Плат «Под стеклянным колпаком». И женское письмо — феноменально, Эмили Дикинсон тоже, и вокруг этого феномена непохожести всей той литературы, которая была, строится женское письмо, как можно по-другому. Иногда мне кажется, что это утрируется, а иногда мне кажется, что специально делается всё непохожее, чтобы оторваться от этого условно «мужского канона» западноевропейского романа. Даже если мы вспомним Жорж Санд, то она писала под мужским псевдонимом и у неё типичный male gaze, мужские западноевропейские романы, хотя некоторые её сексуальные очерки тоже. Я не знаю много про Жорж Санд, но тоже есть моменты, где она брала этот male gaze, заимствовала и писала с его точки зрения, а были скандальные моменты, потому что она в какой-то момент брала и отбрасывала его, и не только женщине это было непристойно делать, а и мужчине было непристойно такое писать! И тем более женщине, когда это всё вскрывалось.
Зритель 3: Другой вопрос — вы упоминали разницу между Толстым-писателем, Толстым-человеком и Толстым-героем. Я помню, что там были какие-то уровни, но сейчас не могу вспомнить, чем конкретно отличается, допустим, Толстой-человек от Толстого-писателя? Именно во время написания определённых текстов.
А. Биктимирова: Вообще, это пример Ролана Барта в его статье «Смерть автора», в которой он использует Бальзака и конкретный роман. Почему я переложила это на Толстого? Толстой-человек — это субъективный человек, который как-то мыслит, думает и понимает. Толстой-писатель — это скорее человек, который понимает, что ему нужно выжить и написать сколько-то страниц романа о чём-то, и при этом обязательно внести какую-то мораль, потому что в XIX веке романы без какой-либо морали и без основополагающей мысли, которая пронизывает весь текст, сложно помыслить, особенно в русской литературе. И там уже Толстой не как герой, но герой Толстого Пьер Безухов. Можем ли отождествлять некоторые мысли Толстого с мыслями Пьера Безухова? Думал ли так Толстой когда-нибудь? Вот такие примеры.