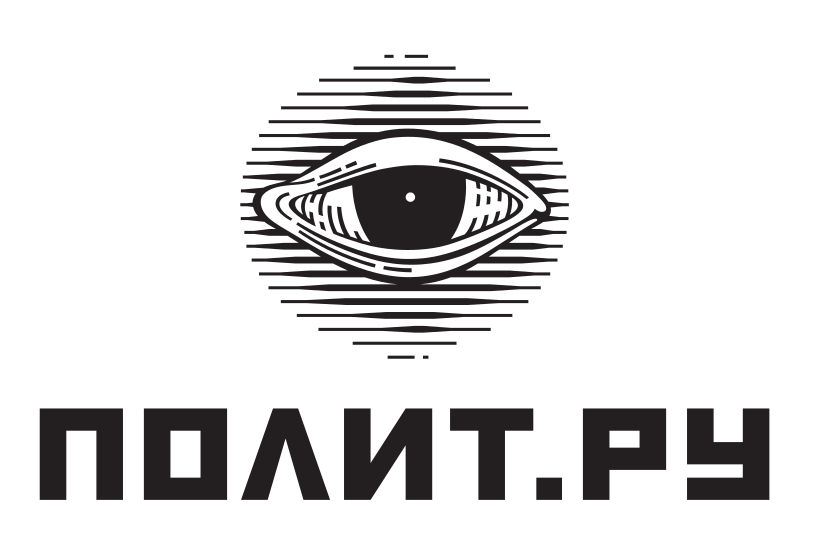Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге представляет книгу Кшиштофа Помяна «Коллекционеры, любители и собиратели. Париж, Венеция: XVI–XVIII века» (перевод Валерия Кислова).
Польский и французский историк Кшиштоф Помян (р. 1934) посвятил свою многолетнюю творческую деятельность исследованию концепций памяти и истории, в которых значения тех или иных предметов всегда играли ведущую роль. Настоящая книга, составленная из очерков 1970–1980-х годов, была впервые опубликована во Франции в 1987 году и сразу же стала основополагающей для изучения истории коллекционирования, задав те фактические и теоретические рамки, в которых вели свою работу несколько последующих поколений ученых. Помян не признает принятых сегодня границ между собиранием произведений «изящных искусств», с одной стороны, и прочих объектов — с другой, рисуя общую картину европейского коллекционирования с XVI по XVIII столетие. Он демонстрирует междисциплинарный характер истории коллекционирования, неразрывно переплетенной не только с историей искусства, науки, общества и политики, но и с антропологией, социологией и вопросами ценности и значимости в контексте различных экономических и социальных структур. Издание предназначено для историков и искусствоведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся европейской культурой и антропологией.
Предлагаем прочитать один из разделов главы, посвященной изучению античных древностей в XVII веке.
Венеция
Здесь, в силу обстоятельств, интерес к местной эпиграфике смог проявляться лишь в создании сводов «новых» надписей, как у Жана Жоржа Пальфера в начале XVII века, либо при цитировании в последующих изданиях книг Сансовино и Мартинелли. Что касается коллекций древних надписей, то все они составлялись из предметов, привезенных с материка, особенно из Аквилеи, патриархами которой традиционно были венецианцы, из Адрии, где венецианские семьи имели свои владения, а также из Далмации, Греции и с островов. В этих коллекциях чаще, чем в прочих, обнаруживаются греческие надписи, как, например, у Джироламо Молина или Бернардо Тревизани.
Разнообразие местных особенностей, которое мы только что осветили, чревато тем, что в нем несколько скрадываются характерные черты, присущие истории эпиграфической любознательности и даже истории любознательности к древностям вообще в Венето XVII столетия. И прежде всего тот факт, что эта любознательность идет двумя последовательными волнами, между которыми, кажется, нет прямой взаимосвязи. Первая, охватывающая конец XVI и первые десятилетия XVII веков, лучше всего представлена деятельностью Лоренцо Пиньориа. Мы уже говорили о нем как о коллекционере, связанном с такими собирателями, как Гуальдо в Виченце или Никезола в Вероне. Но сеть его знакомств куда более обширна; мы упомянем лишь некоторые.
В Вероне это два врача, Бенедетто Черути и Андреа Кьокко, авторы труда Musaeum Calceolarium, в котором, кстати, фигурирует письмо Пиньориа, адресованное Черути по поводу камня, покрытого иероглифами. В Беллуно — Луиджи Лоллино, епископ, библиофил и поэт, портрет которого Пиньориа хранит в своем studio. В Тревизо — местный краевед Джованни Бонифачио, который посылает Пиньориа медали. В Падуе он связан со всеми имеющимися в городе коллекционерами и антиквариями: это Джованни Баттиста Фикетти, «человек, сведущий в наших антиках» (huomo intendente delle nostre antichità); Франческо Ведова, «который прибавил к знанию в сфере юриспруденции тончайшую осведомленность о лучшей литературе и древностях родины» (che alla Giurisprudenza havesse congiunta un’esquisita notitia delle Lettere più belli e delle Antichità della patria); Луиджи Коррадини, владелец галереи; Джорджио Контарини и другие. И наконец, не будем забывать, что Пиньориа, долго живший в Риме, сохраняет в этом городе множество прочных дружеских связей. У него прекрасные отношения с Пейреском и образовавшимся вокруг него кругом. Автор трудов, широко распространенных в ученой среде, активный деятель культуры, Пиньориа может по праву считаться ключевой фигурой в познании древностей в области Венето на протяжении первой трети XVII века.
Затем следуют два пустых десятилетия, в которых нельзя не видеть последствие чумы 1630 года. Конечно, Джованни Филиппо Томазини (1595–1655), знавший Пиньориа и описавший его библиотеку и коллекции, был связан с Джованни де Ладзара. Но редкие факты такого рода недостаточны для установления мостов между поколением начала века и поколением его второй половины, ведущим представителем которого выступал Серторио Орсато. Муж Ирэн Мантова Бенавидес, сестры Андреа, последний хранитель прародительской коллекции, Орсато был мэтром эпиграфики у Черкиари и оказал влияние на всех тех, кто в Венето интересовался древними надписями. Он дружил с Джованни де Ладзара и переписывался со многими эрудитами и антиквариями других итальянских и иностранных городов. Среди его прямых и косвенных учеников первое место занимает Камилло Сильвестри, которому была передана коллекция надписей, созданная Орсато и перемещенная из Падуи в Ровиго; Карло Сильвестри, сын Камилло, продал ее Маффеи для музея Филармонической академии, где она пополнила собрание мраморной скульптуры Никезолы. Среди обширных знакомств Камилло Сильвестри фигурируют многие лица, с которыми мы уже встречались: Джулантонио Аверольди, Джованни Марцио Черкиари, Шарль Патен, Карло Торта, Апостоло Дзено, Шипионе Маффеи, двое последних — и не только они — продолжали традицию любознательности и античной эрудиции вплоть до XVIII века.
При сравнении поколения до 1630 года и поколения после 1650-го прежде всего поражает развитие специализации. Кабинеты антиков всех видов, столь распространенные в начале века, уступают место, особенно после 1670 года, коллекциям, которые, пусть даже объединяя самые различные древние предметы, подчеркивают ценность той или иной категории, предпочтительно медалей или, куда реже, надписей. В своем поколении — а это поколение и Орсато — Москардо кажется изолированной фигурой, ибо, несмотря на все бóльшую склонность к истории и изучению древностей, являет собой пример энциклопедической и экспансивной любознательности. Такая любознательность, по-своему проявляемая и антиквариями начала века, уже не направляет поиски Орсато, Черкиари, Сильвестри, Патена и прочих авторов каталогов старинных монет. Побуждающая их любознательность начинает менять свою природу. Отныне она все более направляема, сосредоточенна, дисциплинированна.
Интерпретация древних памятников, которой занимался, например, Оттавио Росси или — более эрудированно и критически — Лоренцо Пиньориа, заключается в том, чтобы объяснять форму и порой материал каждого памятника, а также, в случае надобности, изображение и последовательность нанесенных на нем букв, ссылаясь на древние тексты. То есть признавать авторитет древних авторов во всем, к чему они обращались. Понять древний предмет значит установить то, что древние говорили на его счет. Любой предмет, представленный как имеющий непосредственное отношение к мнению древних, становится символом: чем-то частным и зримым, отсылающим к незримому и всеобщему. Из этого следует, что его связывание с другими предметами и текстами, призванными его пояснить, не может быть подчинено никаким правилам; каждый тип предметов и даже каждый отдельный предмет символизирует это связывание особым образом, который удается постичь лишь с помощью вдохновения или интуиции. Что касается предметов, не поддающихся объяснению через доступные тексты, они неминуемо символизируют тайны; и уж если должны отсылать к верованиям древних, то лишь к оккультным, тем, которые не были доверены письму или были сокрыты за буквальным смыслом текстов. Поскольку выявление этих оккультных верований имеет значение инициации и необходимо для познания суждений древних о чем-то самом важном, с их точки зрения, то их изучение оказывается привилегированным, а значит, привилегированными оказываются и соответствующие им предметы: иероглифы, мумии, амулеты, гностические геммы и кольца. Следуя такой установке, некоторые, подобно Пиньориа, сохраняли осторожную сдержанность, а другие, по примеру Афанасия Кирхера или Джованни Баттиста Ферречо, если взять автора венетского происхождения, отдавались экзегетической страсти и искренне верили, что нашли ключ ко всем загадкам и объяснение всех тайн.
Однако такой подход — лишь одно из проявлений безудержной любознательности, которую мы уже рассматривали в действии, — начинает терять свои позиции во второй половине века. Авторитет древних медленно подрывается, в частности, критикой пирронистов. То, что видят, становится более достоверным, чем то, о чем читают, ибо сам взгляд меняется в зависимости от новых предположений, которые его информируют и направляют. Все меньше стараются приобщиться к тайнам древних и все больше пытаются получить знания о них, проверяемые благодаря знаниям других исследователей. Дабы вывести веские заключения о верованиях, познаниях и нравах древних, начинают сравнивать предметы и объяснять одни через другие, внутри однородных классов. А эти классы составляются согласно выбранному критерию: типологическому — при сравнении предметов той же категории (например, надписи или медали); хронологическому — когда они датируются той же эпохой; географическому — когда они происходят из той же местности. Так, символическую интерпретацию постепенно сменяет сравнительный метод с правилами, которые регулируют классификацию и, исключая сравнения, считающиеся незаконными, исключают также вопросы, считающиеся неуместными; тем самым любознательности навязываются пределы, за которые она уже не вправе выходить. Параллельно осуществляется валоризация предметов, лучше всего подходящих для сравнительного метода, что сопровождается ослаблением интереса к курьезным редкостям и оккультным верованиям.
Разумеется, все это происходило не так просто и прямолинейно, как может показаться читателю нашего повествования. Были попытки сопротивления, конфликты и разрывы, а в разных городах отношение к коллекциям менялось с разной ритмичностью. За неимением места достаточно будет привести лишь один пример, показывающий всю сложность этого процесса. Между 1335 и 1344 годами монахи монастыря Санта-Джустина в Падуе обнаружили следующую надпись:
VF
T LIVIUS
LIVIAE T.F.
QUARTAE L.
HALY
CONCORDIALI
PATAVI
SIBI ET SUI
OMNIBU
В ней они распознали текст, восходящий к самому Титу Ливию, знаменитейшему гражданину Падуи, и когда в 1413 году на том же месте были эксгумированы человеческие кости, то все, естественно, подумали, что это останки историка. Они стали предметом почитания, подобно реликвиям какого-нибудь святого; Альфонс Арагонский, король Неаполя, даже потребовал, чтобы ему отправили один из обнаруженных фрагментов. Это мнение разделяли все падуанские историки, которые в прекрасном единодушии прочитывали надпись следующим образом: Vivens fecit / Titus Livius / Liviae Titi filiae / quartae. Lucius / Halys / concordialis / Patavi / sibi et suis / omnibus. Серторио Орсато в своем труде Monumenta Patavina («Памятники Падуи») 1652 года все еще придерживался именно такого прочтения.
«Доверяя многочисленным эрудитам и, в частности, Скардеоне, несогласие с которым в вопросах патриотизма <…> представлялось [ему] большим неуважением к истории»196, Орсато все же не мог избавиться от сомнений. Ведь, выступая за атрибуцию этого текста Титу Ливию, нельзя было не признать, что тот допустил курьезную грамматическую ошибку: имя Луция Халиса, предполагаемого зятя историка, стояло в номинативе, а не в дативе, как имя его супруги. Это замечание казалось Орсато педантской придиркой — хотя камень и датировался временем Августа, «когда все сущее достигло вершины совершенства» (nel quale tutte le cose arriuarono al colmo della perfezione), — и куда менее убедительным, чем единодушное мнение предшествующих исследователей. Каково же было удивление Орсато, когда немецкий эпиграфист Маркардус Гудиус, которого он привел к памятнику Титу Ливию с царящей в центре надписью, прочел ее так, что сразу же опроверг традиционную интерпретацию и устранил грамматическую ошибку, от которой иначе никак не получалось избавиться: Vivens fecit / Titus Livius / Liviae Titi filiae / quartae. Libertus / Halys / concordialis / Patavi / sibi et suis / omnibus.
Но Орсато был не готов или, скорее, сделал вид, что не готов отказать в авторстве историку Титу Ливию и приписать его какому-то освобожденному рабу Титу Ливию. Поэтому он задал Гудиусу три вопроса: 1) разве слово libertus не должно было стоять сразу после имени бывшей любовницы? 2) мог ли какой-то раб носить имя Halys? 3) мог ли какой-то libertus получить наивысший священнический титул в Падуе: concordialis? Ответ на первый вопрос состоял в том, что подобный оборот встречается и в других хронологически близких надписях, где речь идет о том, что своей свободой бывший раб обязан женщине. Затем была процитирована другая надпись, доказывающая, что рабы могли носить имя Halys; поскольку оно написано через букву i, Орсато, доказывая на примерах, объясняет, что не имелось разницы между i и y. И упоминает о других надписях, свидетельствующих о том, что в колониях освобожденные рабы добивались самых высоких почестей.
Дабы обосновать прочтение надписи, данное Гудиусом и уверенно приписанное себе, Орсато сравнил ее с тринадцатью другими, близкими по датировке, характеру и в некоторых случаях по месту происхождения. Эту работу он мог бы сделать ранее, причем с тем же результатом, если бы его не сдерживал авторитет предшественников. Понадобилось воздействие извне для того, чтобы в таком особо сложном случае его взгляд сумел выявить смысл античных следов, опираясь не на знание, полученное от традиции, а на систематическое и внимательное сопоставление одних памятников с другими. И именно в силу исключительности этого случая здесь сохранился след изменения самого подхода: увиденную вещь напрямую уже не относили к чему-то незримому, в данном случае предположительно известному прошлому, а предварительно сравнивали с аналогичными ей вещами и выводы о прошлом делали исключительно по результатам этого сравнения. Так создавалось опосредствованное отношение к объекту изучения.
Однако особенность случая с надписью «Тита Ливия» заключается в том, что проблемы, возникшие у Орсато при новом прочтении, делают проблемным и постижение прошлого, поскольку, прежде всего, касаются настоящего. Изрядную часть своего текста он посвящает тому, чтобы сделать для сограждан приемлемой истину, которая наверняка не могла им понравиться. Отсюда — обилие ораторских предосторожностей и заверений в привязанности к родине, которая только выиграет от восстановления истины; отсюда и важная уступка общественному мнению, утверждение, что новое прочтение надписи не мешает верить в аутентичность останков, традиционно приписываемых Титу Ливию. Как свидетельствует сама терминология Орсато, здесь мы погружаемся в совершенно религиозную атмосферу, в сферу ревностного культа родины. Такой культ присущ не только Падуе. Он проявляется в других венетских городах. И — ключевой момент нашего рассуждения — часто кристаллизует и в значительной степени определяет отношение, формирующееся к надписям.
Коллекции древних надписей создаются, как мы видели, в сухопутных городах, и именно там продолжаются эпиграфические исследования. Зато нумизматические коллекции находятся большей частью в Венеции. Мы осознаём всю весомость этого замечания, как только понимаем, что почти все коллекционеры древних надписей и эпиграфисты старательно прославляют свои родные места или изучают их историю, причем одно часто совмещается с другим. Так, Оттавио Росси пишет историю Брешии и книгу о знаменитых деяниях ее граждан; Джулантонио Аверольди — уже цитированный нами путеводитель по живописи в том же самом городе; Лодовико Москарди — историю Вероны; Сильвестро Кастеллани — анналы Виченцы. К ним следует добавить Даниэле Томитано, историка Фельтре, Бартоломео Буркелато, историка Тревизо, Камилло Сильвестри, автора Historia agraria de Polesine, наконец, Лоренцо Пиньориа и Серторио Орсато, не забыв, разумеется, Шипионе Маффеи, последнего и самого выдающегося представителя этой традиции, который начал с того, что планировал, но так и не создал путеводитель для иностранцев, зато четверть века спустя опубликовал такой итоговый свод эрудиции, как Verona illustrata. В этой связи здесь стоит напомнить показательные названия сборников надписей: Memorie Bresciane, Marmora Berica, Monumenta Patavina. Неизбежно напрашивается следующий вывод: если нумизматика тесно привязана к всемирной истории, то эпиграфика, пусть даже приводя к этой истории, истории Рима и христианства, принадлежит в первую очередь к местной истории, точнее, устанавливает стыковку между ними. Но это справедливо лишь для некоторых областей; в других местах и, особенно, за пределами (limes) Римской империи отношение между изучением медалей и изучением надписей может быть иным и даже кардинально перевернутым.
Эта оговорка уместна и для другого противопоставления между нумизматической историей и эпиграфической историей, которое также определяется особенностями используемых документов. История древних медалей заканчивается на Константине или Карле Великом; история новых медалей начинается с «возрождения искусств». Между двумя эпохами зияет пустота, поскольку средневековые монеты не соответствуют канонам красоты, которые нумизматы полагают совершенно естественными. Однако — и это общее явление — каноны красоты, осуждающие все, что считалось «готическим», теряют свое воздействие на умы, едва речь заходит о предмете, важном для города, страны или учреждения; гробницу Антенора в Падуе все равно почитали, невзирая на всю ее «готичность», то же самое касается и гробниц Скалигеров в Вероне. Но этот фактор не имел значения для сухопутных городов, где в обращении ходили чужие монеты, в отличие от Венеции, которая чеканила свои собственные. А посему было вполне допустимо создавать и собирать коллекции венецианских монет. Зато надписи в каждом из этих городов составляли целую серию, идущую от Античности к XVII веку, и оказывались для историков наиважнейшим источником, который они очень быстро научились использовать. Таким образом, нумизматическая история подчеркивает прерывистость, а эпиграфическая история настаивает на беспрерывности освоения одного и того же места с самых давних времен, на преемственности тех же имен или тех же институций. Первая показывает резкие изменения, вторая — медленную эволюцию.
Надписи, а также другие публичные памятники и произведения искусства являются привилегированными источниками местной истории, позволяющими интегрировать ее в историю универсальную и, следовательно, отмечать влияние событий, местом которых был родной город, на остальной мир. Они воспринимаются коллекционерами, историками-эпиграфистами и довольно большой частью населения как реликвии общего прошлого, элементы, составляющие коллективную идентичность. Поэтому они, а вместе с ними и эпиграфика, имеют не только историческую, но и политическую значимость. Или, точнее, так: именно в силу своей исторической значимости они обладают и политической значимостью, которая проявляется не в сфере власти, уготованной благородным венецианцам, но в сфере культуры. Весьма красноречиво на этот счет решение Филармонической академии Вероны в 1612 году приобрести мраморные памятники Никезолы. Венецианские ректоры подчеркивают, что «для славы города благоразумно» сохранить целиком «столь ценную сокровищницу древних камней, вызывающих вожделение и зависть». Обещание трех членов Компании покрыть расходы на транспортировку камней в музей вызывает «всеобщее воодушевление и удовлетворение отчизны, которая полагает в этих камнях свидетельство своего благородства, своей древности и своего прирожденного величия».
Подобные идеи побуждают хранить в памяти и учитывать в истории все статуи и надписи, все произведения искусства, вывезенные за пределы родины. Так, в Брешии не забывают, что одну статую сановник города Джан Маттео Бембо увез в 1561 году в Венецию, а другую, находившуюся в studio Аверольди, подарили герцогу Феррары. В Фельтре восемьдесят лет спустя помнят, что в 1592 году город дал своему подеста, венецианскому патрицию Доменико Контарини, недавно выкопанную статую Геракла, «тем самым лишая себя столь прекрасного древнего памятника» (privando se stessa de sì bella antichità). В том же городе веком позже вспоминают о статуе, найденной в 1573 году и подаренной патриарху Гримани, а через полтора века — о трех надписях, вывезенных в Венецию, в Чивидале-дель-Фриули и в Триесту. Серторио Орсато посвящает целый раздел своего труда Monumenta Patavina утраченным и перемещенным надписям, к которым позднее прибавятся его собственные; его брата и наследника будут корить за то, что тот отдал их Камилло Сильвестри, «лишая такого блага и отечества, и семьи» (privando da cosi bel pregio e la patria, e la casa). Так же памятно и расставание с картинами: в своей истории Вероны Маскардо помещает в разряд значимых событий покупку благородным генуэзцем «Тайной вечери» Веронезе, считавшейся одним из прекраснейших произведений, сотворенных художником в родном городе.
Благородные венецианцы были патриотами Светлейшей Республики, что и выказывали, завещая ей статуи, медали, произведения искусства и тем самым выражая свою веру в ее вечную жизнь. Но патриотизм, который в сухопутных городах проявляется в привязанности к древним камням, картинам и памятникам, не похож на патриотизм Венецианской республики. Она, конечно, является объектом приуроченной к обстоятельствам риторики, благодарности, признательности и различных посвящений. Но от этого не становится родиной. Ибо слово «родина» имеет совершенно точный смысл: родина — это родной город. И изучают прошлое именно своей родины. Защищают и возносят именно ее славу. И общаются со своими согражданами через поминание ее великих людей и ее главных событий. Короче говоря, именно вокруг родины создается культ, в котором коллекции произведений искусства и древностей играют немаловажную роль, ибо собирание реликвий создает основу для коллективной памяти. Патриотизм оказывается движущей силой, побуждающей создавать коллекции да и вообще интересоваться сохранением памятников и их изучением.
Патриотизм отдельных городов, включая Венецию, ведет к культурному патриотизму всей Италии. Он выражается прежде всего в отношении к языку и литературе, которая, в частности, позволяет приобщиться к культу общих героев-основателей, подобных Петрарке, чьи портреты фигурируют во многих кабинетах. Он выражается также в ощущении общего римского прошлого, чьи памятники следует удерживать на родине, препятствуя их вывозу в другие страны. К теме расхищения Италии иностранцами в своих письмах постоянно обращается Апостоло Дзено. Хваля заботу династии Нани де Канареджио о принадлежащих им рукописях, он добавляет: «Если бы так поступали все остальные, то многие ценные манускрипты и документы не покинули бы Венецию, уплыв в Голландию и Англию, а другие предметы не оказались бы в лавках старьевщиков и ювелиров». Он сожалеет о перемещении музея Сабатини во Францию и радуется папскому приобретению галереи Альбани, позволившему удержать ее в Италии. В этих письмах Дзено чувствуется что-то вроде смирения с неизбежным. Хотя в год написания последнего письма была опубликована брошюра, которую он наверняка читал и в которой объяснялось, как спасать памятники от разрушения и рассеивания.
Речь идет о знаменитом письме Шипионе Маффеи графине Аделаиде Феличе Каносса Теринг-Зеефелд, публикация которого в 1720 году знаменует смену ориентации венетского изучения древностей. Вопреки представлениям, бытовавшим во второй половине XVII века, которые отдавали преимущество нумизматике, Маффеи отводит первое место надписям. Прежде всего потому, что они говорят больше, чем медали, и составляют архивы, высеченные в камне, и если уж предпочитать древности говорящие, то главенствовать должны надписи. Затем — в этом и заключается нововведение Маффеи — потому, что их следует рассматривать вместе с барельефами и другими изобразительными памятниками: «Разве не встречаются надписи, выполненные с таким мастерством, таким красивым и совершенным начертанием, такими грациозными складками, что они оказываются несравненными образцами рисовального искусства?» Здесь намечается переход от восприятия античности с точки зрения эрудита к точке зрения художественной или эстетической, которая со временем приведет — уже после Келюса, во многом близкого Маффеи, и особенно после Винкельмана — к вытеснению медалей, надписей и вообще мелких предметов большими статуями и утрате антикварием его центральной позиции в пользу искусствоведа. Разумеется, до этого Маффеи еще далеко. В надписях его интересует преимущественно их использование для хронологии, географии, изучения религии язычников и языка.
Этой пользой обосновывается проект создания в Вероне музея, посвященного надписям. Задача этого публичного собрания, принципиально отличающегося от старой коллекции Филармонической академии, которая должна была заложить его основу, — объединение наибольшего количества старинных надписей и «сохранение их в будущем». Но на новое учреждение возлагались и другие функции. Ибо, по замыслу Маффеи, оно имело еще и предназначение, которое нельзя не назвать политическим:
А еще меня подвигло зрелище, которое являла собой Италия: каждый день она утрачивала всевозможные древние памятники, жадно разыскиваемые иностранцами, кои, пользуясь нашей слепотой и запущенностью правильного изучения [buoni studi], нами же и внедренного по всему миру, вывозят то, что можно считать палладиумом, оберегавшим нашу честь. Особенно меня тронуло количество реликвий, которые еще находятся здесь в силу былого величия этой колонии или легкодоступности и изобилия камней <…> Кто может без страдания допустить, чтобы утратились сии верные свидетельства нашего римского гражданства, нашего рода, нашего старинного достоинства, древних добродетелей, чье пламя нам следовало бы разжечь?
После всего сказанного не стоит долго останавливаться на этом заявлении. Отметим лишь настойчивое обращение к исторической роли Италии, внедрившей в мир buoni studi, и к чести итальянцев, противопоставленных иностранцам, к той чести, которую несут и оберегают древние памятники. Подчеркнем также то, что национальные и локальные воззрения связываются реликвиями былого величия Вероны, являющимися в то же время частью «палладиума» чести Италии. Отметим, наконец, «древние добродетели», упоминание о которых указывает на то, что музей Маффеи призван играть воспитательную роль. И, наверное, интерпретация не будет чрезмерной, если предположить, что речь идет о воспитании гражданской сознательности.
Намечающийся переход от установки эрудита к установке одновременно эрудита и художника; объяснение как общенациональной, так и местной политической направленности музея; разделение надписей по классам, — все указывает на то, что с Маффеи мы вступаем в эпоху, отличающуюся от эпохи Орсато и Сильвестри. В десятилетие, последовавшее за публикацией его брошюры, ослабление интереса к предметам, увлекавшим антиквариев XVII века, становится все более ощутимым. В письме, датируемом началом 1731 года, Апостоло Дзено пишет: «Здесь [в Венеции] почти совершенно пропала мода на медали, которая ранее была столь распространенной и процветающей». Через неделю он вновь — и не в последний раз — возвращается к этой теме: «Столь полезное изучение постепенно исчезает в Италии, зато как никогда пышно расцветает за горами и за морями». В последнем Дзено ошибался. Ибо за пределами Италии происходили аналогичные изменения. Например, в Париже именно в 1730-е годы коллекционеры начинают отворачиваться от медалей. Отныне их внимание захватывают раковины и другие природные творения.