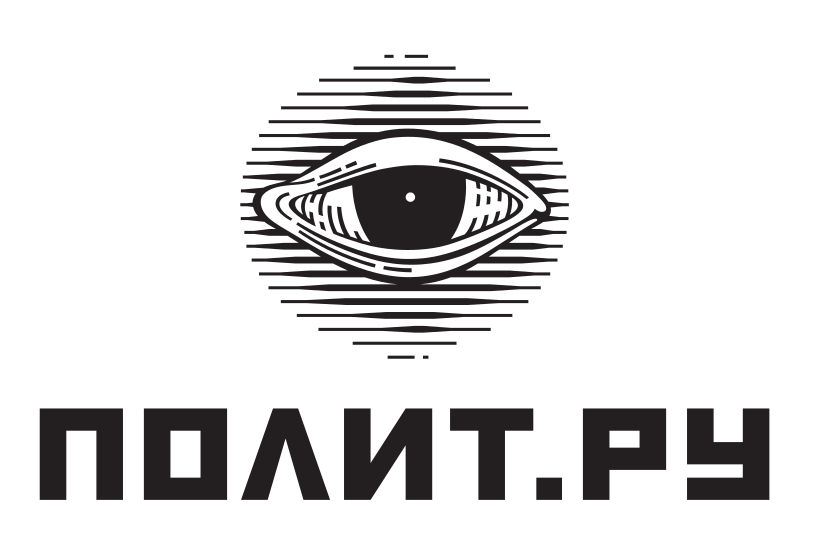Издательство «Новое литературное обозрение» представляет книгу доктора филологических наук, сотрудницы Института славистики Берлинского университета имени Гумбольдта Ярославы Ананко «Каникулы Каина. Поэтика промежутка в берлинских стихах В. Ф. Ходасевича».
В первой половине 1920-х годов важнейшим центром русской литературы за рубежом становится Берлин. Здесь происходит формирование особой писательской среды, в которой биографические вопросы «где и как жить» сопрягаются с вопросами поэтологическими — «как и для кого писать дальше». К числу ключевых фигур русского Берлина относится Владислав Ходасевич (1886–1939), который в Германии начинает писать «Европейскую ночь» — свою последнюю и самую знаменитую книгу стихов. В лирических образах и поэтических нарративах, действие которых происходит на померанско-бранденбургских курортах или в урбаническом угаре берлинского метрополиса, Ходасевич разрабатывает способы письма и самоописания литературы, во многом ставшие парадигматичными для поэзии русской эмиграции. Берлин на закате старой Европы оборачивается хронотопом пораженческого зазора, поэтическая и биографическая точка невозврата пройдены, и лирическому герою остается одно — форсировать и протоколировать болезненное разложение русского модернизма. Удивительно,что «Европейская ночь», столь важная книга как для Ходасевича, так и для русской поэзии в целом, до сих пор остается недостаточно изученной. Настоящая работа призвана восполнить этот пробел.
В публикуемом отрывке говорится о связи образа Каина и польской темы в творчестве Ходасевича.
Ходасевич всю жизнь помнил о своем происхождении. Отец поэта был выходцем из обедневшего польского шляхетского рода, мать родилась в еврейской семье, но была, по разным свидетельствам, отдана на воспитание то ли в польский пансион, то ли в польскую семью[1]. В любом случае ее родным языком был польский, сама она была (или стала) истой католичкой и сына Владислава крестила в католичество[2]. В статье «К столетию "Пана Тадеуша"» (1934) Ходасевич вспоминает, как в детстве после утренней молитвы мать рассказывала ему о Польше и читала наизусть Мицкевича[3]:
По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату. Там над кроватью висел в золотой раме образ Божией Матери Остробрамской. <…> Став на колени, я по-польски читал «Отче наш», потом «Богородицу», потом «Верую». Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи. То было начало Пана Тадеуша. <…> Всякий раз после того, как герой (которого имя еще не было названо) только что вылез из повозки, побежал по дому, увидел знакомую мебель и часы с курантами, и с детской радостью / Вновь потянул за шнур, чтобы знакомый вал / Мазурку старую Домбровского сыграл, мать начинала плакать и отпускала меня. Эти стихи я знал почти наизусть, многого в них не понимая, — и не стремился понять.
Курсивом выделена цитата из Мицкевича. «Пан Тадеуш» оказывается как референциальной деталью польского детства, так и той метапоэтической рекурсивной рамкой, в которую Ходасевич вписывает свои автобиографические воспоминания. Идиллия Мицкевича является для автора «Европейской ночи» проекцией и проектором корневой вовлеченности в польский культурно-языковой контекст и одновременно ностальгической отлученности от него. При этом сами воспоминания пишутся на русском языке и адресованы русскому читателю. Мицкевич и польскость выступают как фигуры авторефлексивной идентификации, но и самоотчуждения и демонстративного приобщения к русской культуре и литературе. Автобиографический и метапоэтический комплекс польскости, в который вписывается мотив чтения Мицкевича и который вписывает сам себя в прообраз мицкевичской идиллии (возвращение Тадеуша домой), становится сюжетом мнемонической реконструкции, но вместе с тем и деконструкции, идентификационного отказа и самоотречения.
Кровный полуполяк-полуеврей Ходасевич, державшийся особняком в русской литературе Серебряного века, не просто учитывал субъективно ощущаемую им родовую отчужденность в русской среде, но и сделал автобиографическую польскость материалом идентификационной транспозиции и конверсии, интегрировав ее в метапоэтический сюжет поиска своего места в русском культурно-языковом пространстве. Процитированное выше воспоминание Ходасевич не случайно предваряет следующим комментарием:
Несколько впечатлений, которые мне сейчас вспоминаются очень ясно, относятся к самой ранней поре моей жизни, к тому времени, когда я еще не ходил в детский сад, с которого началось мое, уже безвозвратное, обрусение[4].
Пóздней, сознательной саморусификации, включающей в себя проговаривание польских корней, предшествовало «обрусение» извне. Ходасевич артикулирует конфликтность своей ассимиляции в русской культурной и литературной среде. Приватность польского пространства (комната матери) противопоставляется русской социализации, пространственным носителем которой выступает детский сад. «Безвозвратность» этой социализации прочитывается двояко: с одной стороны, подчеркивается трагизм разрыва с польскостью, с другой — русскому читателю демонстрируется курс на интеграцию. Идентификационный мотив ренегатства с его этической проблематикой ломки идентичности здесь прямо не педалируется, хотя и присутствует биографическим фоном: подобно тому как мать когда-то перешла, обратилась из еврейской культуры в польскую, Ходасевич обращается из польской — в русскую. Для поэта важны как польскость матери с еврейским подтекстом, так и сам волевой путь к другой, чужой идентичности, момент культурной конверсии.
Ходасевич представляет русскому читателю ретроспективу своей удавшейся интеграции. Интересно, что разобранная выше рефлексия обращения из польского в русское открыто происходит только в 1930-е годы, когда Ходасевич уже гарантировал и зарезервировал себе место в русской литературе. В период становления Ходасевича как русского поэта, в 1900–1920-е годы, тема конверсии тоже имплицитно присутствует, но замалчивается, вытесняется или же маргинализируется, появляется эпизодически и опосредованно. Для него, видимо, долгое время существовало внутреннее табу на открытую тематизацию автобиографической польскости в поэтических текстах. Поэт написал всего несколько стихотворений с польской компонентой, но не печатал их и не включил в собрание стихов 1927 года.
Один из первых опытов текстов с польской и одновременно еврейской тематикой — публицистическое, окказиональное, недописанное и неопубликованное стихотворение 1915 года «На новом радостном пути…», которым Ходасевич откликнулся на погромы в австрийской части Польши[5]. Каинов нарратив становится сюжетно-метафорическим стержнем стихотворного наброска:
На новом радостном пути
Поляк, не унижай еврея,
Ты был как он, ты стал сильнее, —
Свое минувшее в нем чти!
(В тот день,) когда воскреснет старый Вавель,
Для славы, прерванной судьбой,
Да не падет еврей, к[а]к Авель,
Под братской польскою рукой.
Два скорбных (чуждых) племени вмещая
В пределах горестных своих,
Ты для одних — земля (страна) родная,
Ты край изгнанья — для других.
<…>
О, Польша![6]
Афористически-агитационная форма первой строфы была, по всей видимости, во многом обусловлена специфическими обстоятельствами создания текста. Стихотворение писалось «на случай», первая строфа была использована для украшения пасхальных яиц на благотворительной акции Литературно-художественного кружка по сбору средств для жертв войны[7]. Замечательна оговорка Ходасевича в письме к Садовскому: «Мы, поляки, кажется, уже немножко режем нас, евреев» (курсив Ходасевича)[8]. Двойная, польско-еврейская идентификация реализуется в рамках мотива братоубийства: еврей Авель падает под рукой Каина-поляка. Автобиографизированная версия Каинова сюжета, предложенная Ходасевичем, существенно отличается от трафаретных военных Каиновых метафор его современников, о которых говорилось выше[9].
Показательны риторические фигуры, которыми автобиографический герой Ходасевича взывает к эмпатии. Заостряя общность изгнанническо-изгойских судеб поляков и евреев, Ходасевич отдельно отмечает преимущественное положение поляков на родине в противовес еврейской бесприютности, а также мерцающую в будущем надежду на восстановление Польши. Бездомный и одновременно «прописанный» в Польше еврей Авель рифмуется с краковским Вавелем — некрополем польской идентичности. По этому черновому стихотворению на случай видно, как в рамках окказионального экспромта Ходасевич закладывает основы тех противоречивых идентификационных импликаций и сюжетных перипетий образа Каина-изгнанника, Вечного жида и Вечного поляка, которые впоследствии будут характеризовать автопоэтологического персонажа «Европейской ночи».
Открытой поэтизации польской темы в произведениях Ходасевича не происходит, даже те отрывки и эскизы, которые делает поэт, пробуя и примеряя на себя «польские» сюжеты, остаются черновыми набросками, не предназначенными для публикации. В такой ситуации тем ценнее для поэта могла оказаться представившаяся возможность работы с польской тематикой в пространстве перевода. В 1915 году Ходасевич был привлечен к подготовке избранных произведений Мицкевича для «Издательства Сабашникова» и перевел несколько стихотворений и прозаических текстов польского поэта[10]. Это неожиданное погружение в родной и вместе с тем чужой — отчужденный — польский язык вновь напомнило поэту о его сложной гибридной идентичности, а в 1917 году Ходасевич в качестве редактора и переводчика оказался вовлечен в еще один литературно-переводческий проект — в подготовку «Еврейской антологии». Две поэтические темы и две идентификационные проекции переплелись в единое целое. Именно в контексте этих польско-еврейских переводов Ходасевич в 1917 году пишет первый вариант так и не опубликованного (и, по-видимому, незаконченного) стихотворения «Я родился в Москве. Я дыма…», где в поэтической форме описывает те самые утренние часы с матерью, о которых спустя семнадцать лет он будет вспоминать в эмиграции в связи со столетием «Пана Тадеуша»:
Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землей родимой
Мне мой отец не завещал.
Но памятны мне утра в детстве,
Когда меня учила мать
Про дальний край скорбей и бедствий
Мечтать, молиться — и молчать.
Не зная тайного их смысла,
Я слепо веровал в слова:
«Дитя! Всех рек синее — Висла,
Всех стран прекраснее — Литва»[11].
Прежде чем перейти к нарративу польской идентификации, автобиографический персонаж-рассказчик декларирует и акцентирует место своего рождения, а значит, и свою русскую культурно-топографическую принадлежность. Москва, олицетворяющая Россию, противопоставляется «польской кровле» и одновременно с ней сливается. Эта сюжетная спайка мотивируется интертекстуально: для определения Польши Ходасевич использует классическую идиому русской литературы («И дым Отечества нам сладок и приятен»), идущую от Державина через Грибоедова и Вяземского к Тютчеву[12]. Таким образом уже на уровне лексико-семантической фактуры строфы проговаривается — в обоих смыслах слова «проговариваться»: как артикуляции и как фрейдовской оговорки — травма культурно-языковой конверсии, драматической гибридности культурной и литературной идентичности автобиографического героя. Протагонист обнажает и тематизирует свою (былую) польскость, но сам поэтический модус этой тематизации редуцирует ее, растворяя в русской патриотической топике. Палимпсестное закрашивание польского субстрата косвенно выдвигает на первый план пафос саморусификации[13].
[1] См. Шубинский 2012: 16.
[2] Подробнее о родителях Софьи Ходасевич см. Шубинский 2012: 10–15. Об отце Софьи Яковлевны — Якове Брафмане — сохранились весьма подробные сведения, о матери же известно совсем мало. Шубинский предполагает, что она тоже была еврейкой: «В 1890-е годы в семье Ходасевичей жила "бабушка", которая, как вспоминал ее внук, говорила на ломаном русском языке: "Закрой фэнстер" (то есть окно). Так говорить могла лишь женщина, чей родной язык — немецкий или идиш, а не польский или литовский» (Шубинский 2012: 12).
[3] Ходасевич 1996b: 309.
[4] Там же.
[5] См. Waysband 2015.
[6] Ходасевич 2009: 206, 505.
[7] См. Малмстад, Хьюз 2009: 505; Waysband 2015: 248, 261.
[8] Малмстад, Хьюз 2009: 506.
[9] На идеологическую перекодировку фигуры братства — панславистского Авеля (Россия и Польша) против Каина (Германии) времен Первой мировой войны в еврея-Авеля и поляка-Каина внутрироссийского империального дискурса — указывает также Waysband 2015: 260.
[10] Отталкиваясь от разысканий Святослава Бэлзы (1970), Рита Джулиани (2003: 218–220) реконструирует список ходасевичских переводов из Мицкевича.
[11] Ходасевич 2009: 282.
[12] Подробнее о появлении и становлении в русской литературе идиомы «И дым Отечества нам сладок и приятен» (у Державина — «Отечества и дым нам сладок и приятен») см. Корешков, Зельченко 2010.
[13] В рамках темы «Ходасевич и Польша» отдельной проблематизации заслуживает язык русских литературных реалий для описания Польши и польской литературы, когда «родное чужое» (польскость) описывается «чужим родным» языком — цитатными идиомами русской литературы. Ср. также использование русского символистского анахронизма в разговоре о польском тексте XIX века в статье Ходасевича «Конрад Валленрод. 1827–1927» (1927): «Альдона — не только жена Валленрода, но и его Прекрасная Дама, его Психея» (Ходасевич 2010: 523).