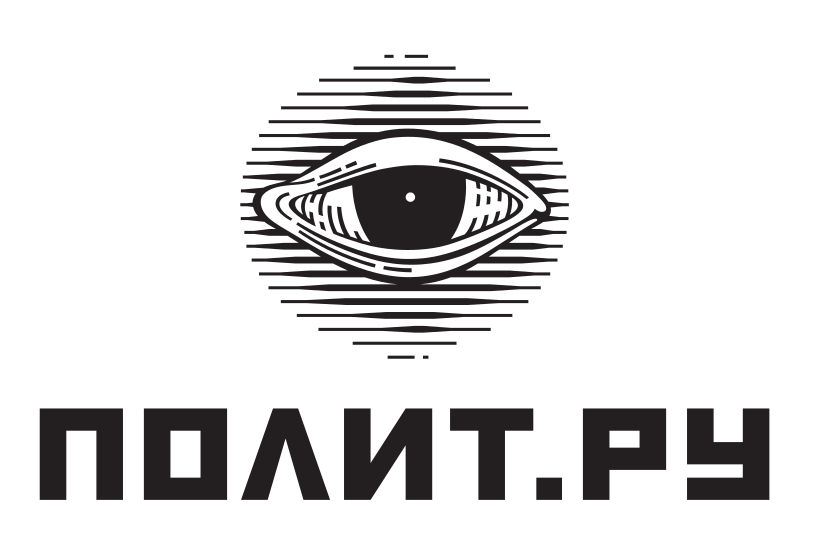Издательство «Директ-Медиа» представляет книгу историка Сергея Цветкова «Александр I».
Русский сфинкс, коронованный Гамлет, двуликий Янус — как только не называли императора Александра I, одну из самых загадочных фигур русской истории XIX в. Книга насыщена живыми картинами нравов конца XVIII — начала XIX в., на ее страницах фигурируют крупнейшие политические деятели эпохи.
В публикуемом фрагменте речь идет о начале правления Александра I и изменениях во внешней политике.
Воцарение Александра сразу привело к значительным изменениям во внешней политике России.
Прежде всего это касалось Англии. Дипломатические отношения с ней были восстановлены, торговое эмбарго снято, скрытое военное противостояние закончилось.
Мальта перестала играть неподобающе огромную роль в международных делах. Александр не принял звания гроссмейстера ордена св. Иоанна Иерусалимского и сохранил за собой только ни к чему не обязывающее звание протектора ордена. Мальтийский крест был снят с русского государственного герба, президент Академии Наук получил распоряжение впредь при издании календаря не включать города Мальты в число городов Российской империи, а в придворном календаре было приказано печатать список мальтийских кавалеров последним.
Вместе с тем Россия избежала разрыва с Францией. Наполеон не собирался отказываться от союза с Россией и для выяснения того, чего ему следует ждать от молодого русского царя, послал в Петербург своего ближайшего сподвижника и друга — маршала Дюрока.
7 мая 1801 года Дюрок был принят царем. Во время аудиенции Александр проявил удивительную наивность. Желая подчеркнуть свое уважение к принципам 1789 года, он выражал бурное восхищение тем, что видит, наконец, француза, участника великой революции, и, предполагая в Дюроке суровые республиканские добродетели, с удовольствием величал его «citoyen» — «гражданин», чтобы доставить удовольствие послу республики. Однако это звание пришлось не по вкусу Дюроку, и он в конце концов вежливо намекнул Александру, что во Франции звание «гражданин» больше никому не ласкает слух.
Помимо аудиенции, Дюрок имел с государем знаменательную беседу в Летнем саду. Взяв посла под руку, Александр водил его по дорожкам сада и развивал свои политические взгляды на отношения России и Франции:
— Я всегда желал поддержать согласие между Францией и Россией. Это две великие и могущественные нации, которые обменялись доказательствами взаимного уважения и должны войти между собою в соглашение, чтобы прекратить мелкие раздоры на континенте. В этом смысле сделаны были предложения моему покойному родителю. Я бы очень желал сговориться непосредственно с первым консулом, честный характер которого мне хорошо известен, не прибегая к помощи многих посредников, всегда опасных. Я говорю с вами откровенно, заявите ему об этом от моего имени. Скажите ему также, что я сочувствую его славе и что не нужно, чтобы думали, будто он стремится к захватам.
Когда Дюрок заговорил о разделе Турции и выгодах для России от торговли на юге, Александр прервал его:
— Мне лично ничего не нужно, я желаю только содействовать спокойствию Европы.
В этих словах уже заключалась несчастная судьба России на ближайшие двадцать лет: русская кровь должна была скреплять фундамент европейского благополучия.
В заключение Александр сказал, что не намерен вмешиваться во внутренние дела других государств, что всякий народ волен избрать себе правительство, которое удовлетворяет его потребностям, и что он осуждает тех, кто противодействует этому.
Выслушав царя, Дюрок с полным правом предупредил Наполеона, что смена правительства в России не дает оснований «ни для надежд, ни для опасений». Об Александре он отозвался так: «В императоре красивая и привлекательная наружность соединяется с большой кротостью и вежливостью; он, кажется, обладает хорошими манерами и образован. Он любит военное дело и пользуется расположением солдат, которых он часто видит и заставляет учиться, не утруждая и не утомляя их. Его любит народ за простоту обхождения и за предоставленную большую свободу...»
26 сентября в Париже был подписан мирный русско-французский договор, а два дня спустя — секретная конвенция, касающаяся урегулирования дел в Германии, Италии и отношений Франции с Турцией.
Приехавший в ту пору в Петербург Лагарп охладил восторги царя по поводу первого консула и французской республики. Наполеон, уверял Александра швейцарец, думает вовсе не о благе человечества, а о личной власти, о захватах:
— Никто ловчее Наполеона не облекается в шкуру ягненка, лисицы и льва. Руководимое им движение назад, ко временам мрака и варварства, совершается с удивительной быстротой. Уже стыдятся признавать права разума и слагают панегирики спасительному невежеству и похвальному легковерию предков. Честного гражданина ожидает тюрьма и ссылка, а шпионов — деньги и почет; свобода слова подавлена.
Подобный взгляд на Наполеона был тогда еще нов, но Александр своим отлично развитым политическим чутьем уловил, что в будущем этому взгляду суждено сделаться преобладающим. Разговоры с Лагарпом пробудили в Александре смутную, пока еще плохо осознаваемую вражду к Наполеону, в причинах которой царь вряд ли отдавал себе отчет. Александр почувствовал в Наполеоне своего главного соперника в деле устроения всечеловеческого счастья, артиста, собиравшегося срывать овации европейской публики и превратить политические спектакли в свой бесконечный бенефис. И главное, что отличало этого артиста от его собратьев, была гениальность, то есть яркий проблеск подлинной, божественно-дьявольской сущности человека, не поддающейся ни, подражаниям ни подделкам под нее. Российский Протей, тоскующий по себе самому, не мог не чувствовать зависти к человеку, знающему и смело осуществляющему самого себя. Поэтому, подписав договор, Александр отозвался о первом консуле, чей «честный характер» был еще недавно «хорошо ему известен», так:
— Какой мошенник!
Эти слова не сулили в будущем ничего доброго.
С приездом Дюрока вопросы внешней политики были затронуты и на заседаниях негласного комитета. Чарторийский высказался по этому поводу в том смысле, что лучшая политика по отношению к французам состоит в том, чтобы внушать им доверие простотой собственных действий, но в то же время и давать им чувствовать, что «мы вовсе не имеем отвращения к тому, чтобы противодействовать силой оружия их властолюбивым замыслам в случае, если они не захотят от них отказаться».
Все согласились с этой формулировкой, а царь добавил, что Россия не имеет надобности в союзах с иностранными государствами и что ей не нужно заключать с ними никаких договоров, кроме коммерческих.
Граф Кочубей был решительным приверженцем системы невмешательства в европейские дела.
— Россия, — говорил он, — достаточно велика и могущественна, ей нечего бояться с той или другой стороны, лишь бы она оставляла других в покое... Благодаря своему счастливому положению, император может жить в мире с государствами всего земного шара и отдаться исключительно внутренним реформам. Именно во внутренней своей жизни Россия может достигнуть громадных успехов в смысле установления порядка, экономического преуспеяния и правосудия во всех частях обширной империи, что вызовет процветание земледелия, торговли и промышленности. Что приносили многочисленному населению России дела Европы и ее войны? Русские не извлекали из них для себя никакой пользы, а только гибли на полях сражений и с отчаянием в душе поставляли всё новых рекрутов, платили всё новые налоги. Между тем для действительного благосостояния России требуются продолжительный мир и постоянное попечение умной и миролюбивой администрации.
Казалось, эта система отвечала взглядам царя. В инструкции русским министрам при иностранных дворах (4 июля 1801 года) Александр отказывался от всяких завоевательных замыслов:
«Если я подниму оружие, то это единственно для обороны от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, опасного для спокойствия Европы. Я никогда не приму участия во внутренних раздорах, которые будут волновать другие государства, и, каковы бы ни были правительственные формы, принятые народами по общему желанию, они не нарушат мира между этими народами и моею империей, если только они будут относиться к ней с одинаковым уважением».
31 октября 1801 года Александр писал С. Р. Воронцову:
«Я буду стараться следовать преимущественно национальной системе, то есть системе, основанной на пользе государства, а не на пристрастии к той или другой державе, как это часто случалось. Если я это найду выгодным для России, я буду хорош с Францией, точно так же, как та же самая выгода России побуждает меня теперь поддерживать дружбу с Великобританией».
Но уже в конце года Кочубей жаловался на упрямство государя, а затем появились первые признаки русско-прусской дружбы, что рушило всю систему уклонения от союзов.
Кочубей рискнул поднять этот вопрос в негласном комитете. Александр заявил, что союз с Пруссией удержит Францию в пределах умеренности. «Триумвират» поддержал царя, заметив, что «Франции следует дать понять, что мы можем сделать ей больше вреда, чем она нам».
Решение о свидании с прусским королем было принято за спиной Кочубея. «Кому придет в голову, — писал он, — что два государя совершают переезд для того только, чтобы осмотреть несколько полков? А в сущности это так и не иначе. Кто поверит, что министр иностранных дел не знал ничего об этой проделке? А между тем и это сущая правда».
Таким вот образом Александр остановился на решении, которое определило всю его последующую политику.
Царь обещал Кочубею, что поездка в Мемель не будет иметь политических последствий, и обещал вполне искренне. Он просто желал, пишет Чарторийский, «сблизиться со своим соседом и родственником. Он чувствовал к пруссакам и к их королю особенную любовь, объяснявшуюся военным воспитанием, полученным им в Гатчине. Для Александра было праздником увидеть прусские войска, о которых он был очень высокого мнения; он с удовольствием готов был воспользоваться удобным случаем расширить свои познания в военном строе и парадах... Кроме того, Александру очень хотелось познакомиться с красивой прусской королевой, порисоваться перед ней и перед иностранным двором. Поэтому он с радостью отправился в Пруссию». Но тем не менее политические последствия этой поездки были весьма серьезные. В Мемеле завязалась дружба Александра с Фридрихом-Вильгельмом III, которая помогла последнему сохранить прусскую монархию — за счет потоков русской крови.
20 мая 1801 года царь покинул Петербург.
Путешествие напоминало триумф. Народ готов был постелить себя под ноги царского коня. В Риге жители со слезами умоляли Александра позволить им выпрячь лошадей и везти его карету на себе. Один из любекских шкиперов отчаянно продирался сквозь толпу к царскому экипажу, вопя:
— Да позвольте же мне, я должен посмотреть на императора мира!
Он пробился прямо к карете, но в давке замешкался и колесо переехало ему ногу. Когда его несли в больницу, он с восторгом повторял:
— Какая важность в том, что мне помяли пальцы? Мои глаза видели императора мира! Я счастлив.
В Мемеле, куда Александр приехал в конце мая, его ждала не менее радушная встреча. Навстречу ему вышли прусский король и всё население города. Праздники — смотры, маневры, приемы, обеды, балы, фейерверки — начались сразу и продолжались всю неделю, до самого отъезда Александра.
Графиня Фосс, обергофмейстерина королевы Луизы, записала в дневнике свои первые впечатления от русского царя: «Император чрезвычайно красивый человек, белокурый; он поражает выражением своего лица; фигура его нехороша, или, вернее, он плохо держится. По-видимому, он обладает мягким и человеколюбивым сердцем; во всяком случае, он в высшей степени учтив и приветлив». На седьмой день она была от него без ума: «Император самый любезный человек, какого можно вообразить себе; и по своим взглядам и убеждениям это вполне честный человек. Бедный, он совсем увлечен и очарован королевой!»
Последнее замечание не было сплетней, хотя оно и не совсем верно передает существо дела. С королевой Луизой у Александра возникли особого рода отношения — так называемое «платоническое кокетничанье», — которые особенно нравились Александру. «Лишь в очень редких случаях добродетели дам, которыми интересовался этот монарх, угрожала действительная опасность», — поясняет сущность этих отношений Чарторийский.
Луиза, по отзыву одной дамы, была «в полном смысле германской Психеей, с голубыми глазами, роскошными волосами и с талией Ундины...» Рослая, статная, красивая той особой величественной красотой, свойственной дебелым немкам, она приняла в «платоническом кокетничанье» с Александром далеко не пассивную роль. Сестра Луизы, принцесса Сальмская, известная своими любовными похождениями, подталкивала ее к флирту с молодым царем. Александр говорил князю Адаму, что «серьезно встревожен расположением комнат, смежных с его опочивальней, и что на ночь он запирает дверь на два замка, из боязни, чтобы его не застали врасплох и не подвергли бы слишком опасному искушению, которого он желал избежать». Он даже высказал эти опасения Луизе и ее сестре, «причем был больше откровенен, нежели учтив и любезен».
Фридрих-Вильгельм смотрел на всё это сквозь пальцы. Как видно, Александру старались угодить во всём, и не напрасно: в Париже в это время шла торговля бесхозными немецкими землями, и Пруссия добилась русской санкции на приобретение многих новых владений. Не последнюю роль в уступчивости царя сыграли его отношения с королевой. «Вы поймете, — писал одному своему корреспонденту обергофмаршал королевского двора Ломбард, — что волшебница немало способствовала скреплению уз, связующих ныне обоих государей. Это фея, подчиняющая всё силе своего очарования».
Покидая Мемель, Александр уже не рассматривал Пруссию как государство, но, по выражению Чарторийского, видел в ней дорогую ему особу, по отношению к которой признавал для себя необходимым руководствоваться особыми обязательствами.
На обратном пути, близ Ковно, Александр увидел толпу народа, глазевшего на бурлака, зашибленного лопнувшим канатом. Царь вылез из экипажа и, узнав в чем дело, послал за лекарем; он сам поддерживал больного, пока ему пускали кровь, и поехал дальше не раньше, чем помог уложить его в коляску.
14 мая 1803 года петербуржцы праздновали столетие основания города. Торжества совпали с событием, на которое в праздничной суматохе мало кто обратил внимание, — в столицу приехал Аракчеев. Возвращение ненавистного павловского фаворита означало, что царь чувствовал себя уже достаточно сильным, чтобы не считаться с мнением общества. После свидания грузинского отшельника с «верным другом» граф Аракчеев был (уже в который раз) вновь принят на службу с назначением инспектором всей артиллерии и командиром лейб-гвардии артиллерийского батальона. Артиллеристы всячески интриговали, чтобы избежать этой чести, но тщетно: переубедить царя было невозможно. С прибытием Аракчеева «служба сделалась во всех отношениях строгая» (в политику граф еще и не думал вмешиваться, зато артиллерию в кратчайший срок привел в блестящее состояние).
Правда, дух времени оказал влияние даже на «гатчинского капрала» — Аракчеев в меру сил проявлял либерализм и гуманность, донося, например, царю о вспомоществовании, раздаваемом им нуждающимся офицерам и инвалидам от его имени во время инспекторских поездок (позже не делал этого никогда).
Предпочтение, оказываемое посредственности и бездарности перед гением и талантом, составляло, быть может, самую несчастную черту правления Александра, и эта черта проступала всё яснее по мере того, как он осознавал неограниченность своей власти. В 1803 году от должности министра юстиции был отставлен Державин. Его доклады царю кончились тем, что Александр однажды, после долгого спора со старым блюстителем законности, закричал на него:
— Ты меня всегда хочешь учить! Я самодержавный государь и так хочу!
За либеральным фасадом Российской империи по-прежнему скрывалась барская усадьба. Одним из первых это почувствовал Радищев, определенный высочайшим указом в комиссию по составлению свода законов, под начало графа Завадовского. Мысль об освобождении крестьян всё еще не оставляла голову автора «Путешествия...», и он открыто делился ею с коллегами, пока Завадовский не сказал ему с дружеским упреком:
— Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему? Или мало тебе Сибири?
Пораженный этими словами начальника и опытного вельможи, Радищев сделался задумчив, беспокоен, стал говорить, что до него снова добираются... Утром 11 сентября 1802 года он неожиданно для домашних схватил какие-то медицинские порошки и всыпал себе в рот, запив большим стаканом царской водки. Узнав о несчастье, Александр прислал больному лейб-медика Виллие, но было уже поздно: в первом часу дня Радищев скончался.