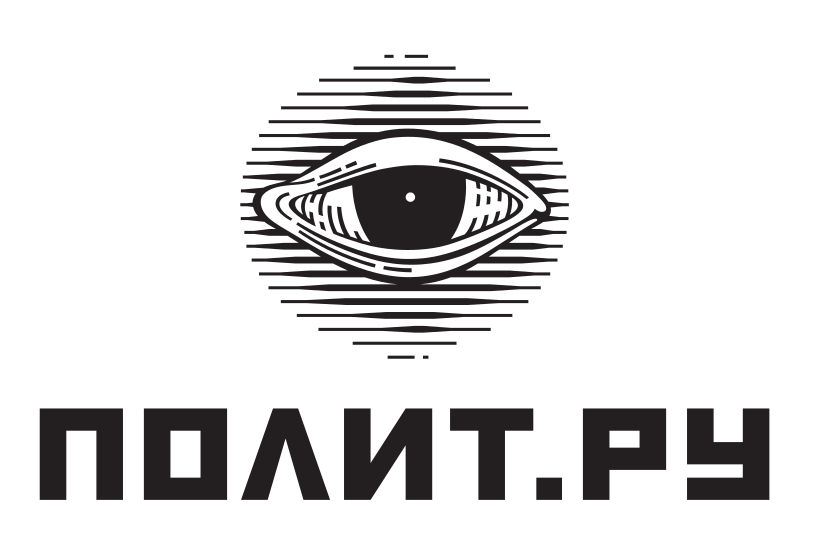Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге представляет книгу Артемия Магуна «Искус небытия. Энциклопедия диалектических наук. Том 1. Отрицательная эстетика».
Автор книги пытается обобщить эстетические операции и эффекты — различие, комизм, контраст, уход с первого плана в фон — как вариации отрицания, выражающие как бунт против реальности, так и опасение впасть в соблазн дереализации. Разрушение, понижение, демонтаж первичного, гипнотического образа мира — это, прежде всего, черты модернизма XX века, но тенденции такого рода характерны и для искусства вообще — в той мере, в какой оно является рефлексией сверхсильных, вводящих в транс вещей. Эстетическая негативность в XX веке становится определяющей, выражая общий демонизм Нового времени, однако, как показывает автор, эта разрушительность объединяет элитарное искусство «модернизма», где главное — негативность формы, с появляющейся в то же время «массовой культурой», в которой доминирует негативность содержания. Преодоление однобокого негативизма, присущего обоим, как и их воссоединение, возможно лишь путем полного осознания эстетической негативности в ее единстве. Книга содержит теоретическое введение, разбор отдельных эстетических теорий (Т. Адорно, Ф. Лаку-Лабарта, В. Бибихина) и произведений искусства разных эпох (Дж. Свифта, Ф. Гёльдерлина, Г. фон Клейста, О. Мандельштама, А. Платонова, А. Германа, А. Скидана, Н. Скандиаки, А. Глазовой).
Предлагаем ознакомиться с фрагментом из главы, посвященной произведениям Андрея Платонова. Впервые текст публиковался в журнале «Новое литературное обозрение». Прежде чем перейти к анализу творчества Платонова, автор рассматривает проблему философской рефлексии, порожденной революциями XVIII–XX веков в Европе.
1. Проблема — интеллектуальное наследие 1917 года
В этой главе я рассматриваю Платонова как крупнейшего представителя интеллектуальной традиции, порожденной 1917 годом. Всемирно исторические события обычно обуславливают возникновение богатой рефлексивной традиции, которая позволяет закрепить и ритмизировать порожденный ими импульс, выдвигают новые понятия, именующие маргинальный или травматичный ранее опыт, фацилитируют (делают устоявшимися, признанными) творческие формы праксиса, признают и тем самым облегчают некоторые болезненные переживания. Так, Французская революция, сформировав само представление о секулярном всемирно-историческом событии, породила крупнейшие идеологии современности (т. е. дала имя и позиционность ранее разрозненным идеям), сформировала идею и ценность представительной демократии, познакомила с террором, вдохновила немецких философов на создание диалектической, обратимой и учитывающей негативность философии и т. д. Революция 1917 года, изменившая мир до неузнаваемости, к сожалению, не породила столь богатой интеллектуальной традиции. А значит, ее наследие, и в смысле достижений и шансов, и в смысле поставленных проблем, и в смысле опасностей, до сих пор остается во многом неосвоенным. Это особенно важно, естественно, для России и ее сегодняшнего состояния. Поэтому одной из принципиальных исследовательских задач является выявление нетривиальных рефлексивных ходов и понятий, которые возникли в результате и по поводу русской революции 1917 года — они, конечно, существовали, но были похоронены под катастрофическим вырождением революции и последующим противостоянием оппозиции одинаково неинтересных идеологий: догматического эпигонского марксизма и догматического эпигонского либерализма. При этом необходимо читать тексты прошлого не свысока, глазами всезнайки (как это чаще всего делают, пытаясь читать Платонова исходя из идей его времени), а учиться у них, задавая им современные вопросы. Андрей Платонов представляется мне одним из центральных интеллектуалов периода русской революции, который был не просто прозаиком, но ярким диалектическим мыслителем, и который всегда уделял особое внимание революционной событийности как горизонту своей жизни и творчества.
2. Революция нового времени, ее новизна и радикализм
Революционная традиция обычно представляется — и консерваторами вроде Берка, и ироничными либералами, но также и оптимистическими радикалами вроде Лукача и Блоха — как стремление к воображаемой утопии, вторжение абсолюта в повседневную жизнь, которое наталкивается на сопротивление материальной инерции и поэтому приводит к террору, а затем к поражению. В этой версии революции совершаются интеллектуалами, которые навязывают живой реальности свои идеалистические схемы. Как показывает Карл Мангейм, либералы выводят из этого понимания революции компромисс — необходимость постепенного приближения к идеалу, как оно было осмыслено, например, Кантом и Кондорсе[1].
Тем не менее эта традиция не учитывает, во-первых, демократической составляющей модерных революций, а во-вторых, ее осмысления романтиками. Более того, сами романтики и предстают в обыденном интеллигентском сознании как главные идеологи и идеократы. Между тем уже у Руссо, справедливо называемого предшественником романтизма, программа демократической революции парадоксально сочетается с онтологией и во многом апологией одиночного, замкнутого в себе индивида.
Для немецких романтиков пореволюционной эпохи тоже характерны оба эти момента: фольклор, прозаизация мифологических и религиозных мотивов (в духе «романтической иронии»), но также и продумывание внутренней, замкнутой коммуникации и скрытого, тайного абсолюта; эстетика одиночества и меланхолии. Эти мотивы не просто сочетаются, но связаны друг с другом по принципу парадокса. Кроме того, все романтики подчеркивают чувственный и аффективный характер познания, причем по античному образцу главной страстью здесь является страдание — человек страдает именно от того, что слишком сильно чувствует.
В противовес нашему сегодняшнему расхожему понятию романтизма как чего-то возвышенного и наивно-удаленного от реальности, исторические романтики утверждали именно «землю», прозу, чувственную природу как новый поэтический принцип. Другое дело, что они стремились обнаружить в этой самой природе, в ее недрах, а также в простом народе те искры свободы и любви, которые Просвещение стремилось им морально навязать «сверху». Поэтому, например, первый романтический роман, «Генрих фон Офтердинген» Новалиса, написанный в крайне мистическом ключе, посвящен горнодобывающему делу. Поэтому Шеллинг противопоставляет просветительской философии «я» Фихте зеркально противоположную (хотя и похожую по методу) философию природы. «Мы мечтаем о путешествиях по всей Вселенной, — пишет Новалис, — но разве Вселенная не находится в нас самих? Мы не знаем глубин нашего духа. Тайная дорога ведет нас вглубь себя»[2]. Конечно, вектор «воплощения» свободы у разных романтиков отличался — для кого-то это было направление вглубь, против неба, для кого-то это было ниспадение и воплощение «небесных» идей в чувственной материи — но в целом уже для романтиков конца XVIII века дело шло, говоря словами Маркса, о переходе «от критики неба к критике земли»[3]. Другая важная черта романтизма, которая роднит его с постреволюционным временем XX века, — это роль аффектов, в особенности негативных. Широкую известность получил романтический сплин в духе Байрона и Лермонтова, но он характерен для второго, постреволюционного этапа развития романтизма, когда поэтический энтузиазм наталкивается на разочарование и политическую реакцию. Однако уже в йенском романтизме есть важный мотив Sehnsucht, тоски-ностальгии, вызванной вторжением в прозу мира бесконечности абсолюта.
Выше мы уже рассмотрели понимание революции как «духа непокоя» у близкого романтикам Гёльдерлина. Гёльдерлин тоже понимает революцию как движение вниз.
В своих «Заметках об Эдипе» и «Заметках об Антигоне»[4] Гёльдерлин называет революцию «категорическим разворотом». Он подчеркивает, что тенденция нового времени, новой истории противоположна тенденции древних. Если первые, исходя из унаследованной, данной им почвы и судьбы, стремились в «небо» рефлексивных понятий, то в современном обществе всё обстоит прямо наоборот — понятия у нас уже разработаны, а вот почва ушла из под ног, поэтому история и революция должны быть направлены на обретение чувственности и отечества (пугающая сегодня риторика «почвы» у Гёльдерлина означает поворот к прозе жизни, в сердцевину чувственных вещей, от возвышенной пропаганды, которой зачастую отличались французские революционеры).
Друг и последователь Гёльдерлина Гегель позднее, в «Феноменологии духа», выдвигает для объяснения парадоксов Французской революции понятие чистой негативности и, как Гёльдерлин, обращает внимание на обессмысливание в ее ходе слов («пошлость слога» der Tod, «смерть»), в конце концов, правда, утверждая, что негативность сама укрепится в новую позитивную структуру[5].
Крупнейшим романтическим толкователем Французской революции был французский историк Жюль Мишле. Во Франции романтизм как течение получил серьезное развитие на поколение позже, чем в Германии, и тем не менее основные интуиции, положившие ему начало, были теми же — хаотическое разрушение формы, рефлексивность творчества и поворот к глубинам природы и народной жизни. Мишле работает не один, а составляет часть мощного культурного течения, которое начинается в 1820-х и побеждает в 1830-х (Ламартин, Виньи, Гюго и др.) и постепенно переходит от консерватизма к либерализму, а затем и к социализму: романтизм во Франции вдохновил не только писателей и художников, но и политических мыслителей, таких как Ламенне, Бюше, Луи Блан и сам Мишле. Мишле представляет Французскую революцию в своей двухтомной «Истории» как народную драму без протагонистов и как историю сильнейших коллективных чувств. Революция для него — «запоздалое пришествие вечной справедливости»[6] — запоздалое, потому что оно приходит в ответ на тысячелетия страданий и тщетных надежд. Попытка средневековой монархии создать на земле единство и мир провалилась, поскольку она опиралась при этом на благодать, т. е. на произвол. Поэтому «надо копать глубже, чем Данте [автор не только "Ада", но и "Монархии". — А. М.], открыть и высмотреть внутри земли глубокий фундамент народа, на котором построен колосс [монархии. — А. М.]»[7].
Мишле сравнивает революцию с одиноким пиком, торчащим среди горного массива:
Каковы же были подземные революции, какие несчитаные силы боролись в груди земли, чтобы эта масса, поднимая холмы, пронзая горы, рассекая блоки мрамора, пробилась к поверхности! <...> Какие конвульсии, какие мучения вырвали со дна мира этот чудесный вздох!
Я сажусь, и из моих помутневших глаз начинают появляться одна за другой слезы, медленные и болезненные. <…> Природа слишком напомнила мне историю. Этот хаос нагроможденных гор давит на меня тем же весом, который давил на сердце человека в течение всего Средневековья, и в этом опустошенном пике, который вырывался из недр земли против неба, я увидел отчаяние и крик человеческого рода.
То, что Справедливость тысячу лет терпела на своем сердце эту гору догмы, что она провела в растоптанном состоянии часы, дни, годы, долгие годы <…> В этом — для того, кто это знает, — источник вечных слез. Тот, кто, зная историю, разделяет эту долгую муку, никогда из нее не вырвется: что бы ни произошло, он всегда будет печален; солнце, радость мира никогда не даст ему радости; он слишком долго жил в тоске и мраке[8].
Мишле видит необходимость обращения к этой тоске, чтобы искупить ее, но он усматривает и ее негативные последствия в настоящем. Так, он рисует в своей книге фигуру женщины, которая является по природе контрреволюционеркой потому, что сильнее сопереживает и переносит боль с врага на самого субъекта революции («В каждой семье, в каждом доме контрреволюция имела своего яростного <…> проповедника: он плакал, страдал, и каждое его слово было или казалось гласом разбитого сердца»)[9]. Похожим образом уже в XX веке Ханна Арендт с либеральных позиций попыталась объяснить якобинский террор и вообще поражение Французской революции разгулом страстей — и в частности сострадания[10]. Арендт во многом права, когда она указывает на катастрофические последствия нагнетания агрессивной меланхолии. И однако очевидно, что эти страсти, собственно, и были носителями революции — они были одновременно модусом коммуникации и страданием от ее невозможности, они несли мессианское ощущение нестерпимости страданий в ожидании искупления. Масса говорит, плача, в том числе и потому, что страдает от невозможности высказать что-либо, кроме своего голого существования[11].
Жак Рансьер в своей книге «Имена истории»[12] показывает, что все революции, начиная с Великой французской, сталкиваются со следующей дилеммой: революция стремится предоставить голос исключенным из Просвещения, безграмотным массам. Но они не могут ничего внятно сказать! И тогда революционеры говорят за них. Модусом «перевода» становится страсть — точнее, сострадание, жалость, а основным патосом — боль и страдание бедности (об этом уже в XX веке точно, хотя и с либеральным осуждением, написала Ханна Арендт). «Несчастные — это сила земли», — говорит Сен-Жюст. И из этого же настроения рождается атмосфера всеобщего подозрения, террор.
Рансьер показывает, как Мишле в другой своей работе вырабатывает своеобразную фигуру просопопеи в отношении масс: «О чем были причитания матерей? Только они могли бы это сказать. Но от них даже камни заливались слезами»[13]. Во-первых, речь немых матерей «спрятана» в ирреальный модус. А во-вторых, их речь передается мертвым вещам. Рансьер далее пишет о том, как в позднейшей историографии «революционная» техника Мишле была оставлена, а уже в наше время историки мечутся между чисто объективистской историей масс в духе Анналов (раз массы всё равно молчали, то будем описывать их как неживые объекты) и традиционной событийной историей, которая неизбежно будет описывать историю «победителей» — тех, кто говорит. Теряется сам революционный момент, в котором рождается новый субъект, и обретает голос некоторое исходное мычание. Теряются те чужеродные, неснимаемые «имена» собственные, которые прошлое навязывает нам в отношении себя — без этого предмета, субъекта истории, позитивистам нечего было бы объективно «описывать», подсчитывать и регистрировать.
В отношении русской революции и ее эпохи (т. к. она была всемирно-историческим событием) можно сказать, что мы видим, как история повторяется и углубляется, заходит на следующий виток. В начале XX века наследниками ранних романтиков были символисты, и хотя они повлияли на язык постреволюционной культуры, их идеи оказались на этот момент слишком спиритуалистическими и теологическими. С другой стороны, революция сделала ключевым текстом российской культуры переводы Маркса и Энгельса — гораздо более радикальных романтиков, напрямую перенявших язык и идеологию от немецких предшественников, таких как, например, Гегель, Гейне или Беттина фон Арним. В отношении русской революции 1917-го, как и в отношении французской 1789-го, неверен либеральный стереотип о вторжении в жизнь спиритуалистического идеализма.
Помня о «материализме» как установке марксизма, наиболее проницательные идеологи революции настаивали на интериоризирующей направленности события. Так, Алексей Гастев, деятель Пролеткульта, сильно повлиявший на молодого Платонова, певец хтонических машин, во многом близкий к итальянскому футуризму и подобным течениям, в отличие от них, пишет так:
Мы не будем рваться в эти выси, называемые небом. Небо — создание праздных, лежачих, ленивых и робких людей.
Ринемтесь вниз!
Вместе с огнем и металлом, и газом, и паром нароем шахт, пробурим величайшие в мире туннели, взрывами газа опустошим в недрах земли непробитые старые толщи. О, мы уйдем, мы зароемся в глуби, прорежем их тысячью стальных линий, мы осветим и обнажим подземные пропасти каскадами света и наполним ревом металла. На многие годы уйдем от неба, от солнца, мерцания звезд, сольемся с землей: она в нас, и мы в ней. Мы войдем в землю тысячами, мы войдем туда миллионами, мы войдем океаном людей! <…> Мы погибнем, мы схороним себя в ненасытном беге и трудовом ударе.
Землею рожденные, мы в нее возвратимся, как сказано древними, но земля преобразится: запертая со всех сторон — без входов и выходов! — она будет полна несмолкаемой бури труда; кругом закованный сталью земной шар будет котлом вселенной, и когда, в исступлении трудового порыва, земля не выдержит и разорвет стальную броню, она родит новых существ, имя которым уже не будет человек.
Новорожденные не заметят маленького низкого неба, потерявшегося во взрыве их рождения, и сразу двинут землю на новую орбиту, перемешают карту солнц и планет, создадут новые этажи над мирами[14].
Справедливости ради надо отметить, что в творчестве самого Гастева возникают и более традиционные мотивы сублимации машин, да и в приведенном отрывке рассказчик не может сопротивляться соблазну и не отправить всё-таки человечество в «новые этажи». Однако еще в одном тексте, «Железные пульсы», инженер, чтобы сломить забастовку рабочих, устраивает соблазняющий концерт, на котором музыка производит такое впечатление, что «люди рвутся от земли, она тесна, она вся уже взята молотом и машиной»[15]. Похоже, что Гастев отрабатывает в своем творчестве, казалось бы, столь программно-идеологичном, борьбу этих противоположных принципов.
Платонов, чье олицетворение машины носит гораздо более сложный и многосторонний характер, нежели у Гастева, тем не менее разделяет с ним заботу о том, чтобы светлое будущее и соответствующее негативное стремление побыстрее бежать из настоящего, из актуальной ситуации, не потеряли связь с собственным прошлым, т. е. с истоком. Фактически, как мы увидим, хтонически-материальная проблематика русской революции оборачивается у Платонова теорией субъективности — тот, кто достигает счастья, должен быть тем же человеком/коллективом, который в нищете о нем мечтал.
Другая важнейшая черта русской революции 1917-го, роднящая ее с Французской революцией и с ее рефлексией (особенно у Мишле), — это проблема пробуждения и самоуправления неграмотного народа. В этот раз противоречие заостряется, потому что русская революция, с одной стороны, гораздо больше, чем французская, ориентирована на бедные неграмотные классы, упирает на материальные и прозаические, а не правовые и политические лозунги (например, ленинское «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны»). С другой — эта революция возглавляется партией нового типа, и Ленин еще в 1902 году пишет «Что делать?», где поясняет роль авангарда и, в частности, интеллигенции для обретения рабочими классового самосознания. После революции, очевидно, быстро происходит сублимация лозунгов и имен, связанных с революцией, даже когда они носят изначально прозаический характер (индустриализация, генеральная линия и т. д.). Именно в связи с социалистической революцией и вообще с социалистическим движением выдвигает свое понятие «органического интеллектуала» Антонио Грамши[16]. Между пролетариатом или крестьянством и традиционными интеллектуалами (т. е. идеологами, занимающими высшее место в разделении материального и интеллектуального труда) лежит пропасть, но ее можно преодолеть, говорит Грамши, за счет опосредования, опоры на промежуточный уровень «органических интеллектуалов» — инженеров, сельских врачей и др., — тесно связанных со своим классом, но при этом способных универсализировать его позиции. Ясно (хотя сам Грамши об этом не пишет), что именно революция как событие стимулирует и образует означенных «органических интеллектуалов», с риском немедленно профессионализировать и их тоже.
Рансьер в своей цитированной выше книге уделяет особое внимание прозе Исаака Бабеля, показывая, как он пытается воспроизвести «наивную» речь пролетариев и как это у него в конце концов не выходит. Более того, получается порочный круг, т. к. и казаки Бабеля, и, по-видимому, его реальные прототипы говорят формулами, заимствованными из большевистской прессы, в которой пишут как раз интеллигенты вроде Бабеля[17].
Андрей Платонов, по сути, ставит себе ту же задачу, что и Бабель (отсюда его гениальный, но не беспрецедентный язык, смешивающий неграмотную речь, наивный остраняющий взгляд и термины советской идеологии и философии), однако решает ее по-другому. Герои Платонова — наивные субъекты, говорящие на смеси просторечия и бюрократического жаргона, но выражающие на этом новом наречии интересные, оригинальные, часто поэтические или философские мысли. Платонов, в отличие от Бабеля, не занимает по отношению к этой речи иронической позиции, а говорит ею сам и отнюдь не предполагает, что правильный, литературный язык или «настоящее» значение терминов бюрократизированного марксизма содержит большую истину, чем речь его героев.
В отличие от Бабеля, Платонов является крупным философски эрудированным мыслителем. В то же время он действительно происходит из рабочей семьи (Бабель — из торговой), так что мы здесь видим вполне «органического» пролетарского интеллектуала, работавшего и как инженер, и как писатель. С самого начала Платонов усматривает символическое и литературное значение инженерной деятельности, а литературу в традиции Пролеткульта видит с точки зрения инженерии. Однако «опосредование» между вещественной и символической деятельностью не дается ему легко. К концу 1920-х годов, несомненно, в связи с изменением и общественных настроений в творчестве Платонова начинает нарастать мотив меланхолии и тоски. Это означает не признание неудачи в порождении органического интеллектуала, а скорее, обнаружение тоски в качестве субъективизирующего и интеллектуализирующего «оператора».
[1] Манхейм, Карл. «Идеология и утопия», в кн.: Манхейм К. Избранное: диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994, с. 7–276. О либерализме см. с. 186–193.
[2] Новалис. «Цветочная пыльца»; цит. по: Gusdorf G. Fondements du savoir romantique. Paris: Payot, 1982, p. 371 (перевод мой. — А. М.).
[3] Маркс К. «К критике гегелевской философии права», с. 415.
[4] Hölderlin F. "Anmerkungen zum Antigonae", S. 618–624, 670–676.
[5] Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа, с. 316–321 («Ужас»)
[6] Michelet J. Histoire de la Révolution Française, vol. I, p. 93.
[7] Ibid., p. 67.
[8] Ibid., p. 58–59.
[9] Michelet, Jules. Histoire de la Révolution Française. Paris: Robert Laffont, 1998, vol. II, p.16.
[10] Арендт Х. О революции, с. 117–132.
[11] Ровно по той же причине столь долго и безутешно рыдают младенцы, in-fantes.
[12] Rancière, Jacques. Les noms de l’histoire. Paris: Seuil, 1992.
[13] Мишле, Жюль. Истоки французского права; цит. по: Rancière J. Les noms de l’histoire, p. 113.
[14] Гастев, Алексей. «Мы посягнули», в кн.: Гастев А. Поэзия рабочего удара. М.: Художественная литература, 1971, с. 138.
[15] Гастев, Алексей. «Железные пульсы», в кн.: Гастев А. Поэзия рабочего удара, с. 148.
[16] Грамши, Антонио. «Формирование интеллигенции», в кн.: Грамши А. Избранные произведения, в 3 т. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959, т. III, с. 157–466.
[17] Rancière J. Les noms de l’histoire, p. 110–111.